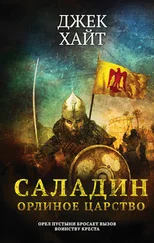Прохор явился к Невельскому вместе с Дерябиным. Оба вытянулись в струнку, хотя вызывали одного Прохора.
Геннадий Иванович изучающе оглядел Калитаева. За плечами у него висело на сыромятном ремне ружье, а за пояс был заткнут бережно завернутый в тряпицу топор. От постоянного пребывания в руках топорище блестело как отполированное.
— Бережешь топор, это хорошо, — похвалил Прохора Невельской. — Плотник ты искусный, и расставаться с тобой, прямо скажу, весьма жаль. Я рассчитывал на тебя в предстоящей постройке шхуны «Лиман». Она будет нужна для перевозки сюда с мыса Лазарева батареи. Ты, говорят, в судостроительстве усвоил многое. Но вот не довелось — забирают тебя. Не припомнишь ли, кто среди вашей партии мог бы сослужить в этом деле пользу?
Прохор колебался с ответом.
— На Шилке были мастера, да только они сюда не попали, многие на Камчатке служат. Так что не могу знать…
— А дружок твой каков мастер? — поинтересовался Невельской, указывая на Дерябина.
— Дружок учится пока. Я как раз за него просить хотел. Нельзя ли нам вместе?
— Нет, — решительно возразил Геннадий Иванович. — В людях большая нужда. Вот его мы тоже поставим на строительство «Лимана».
Уходя от Невельского, Прохор озабоченно сказал:
— Видал, паря, какое дело серьезное — шхуну строить будешь. Это тебе не лодка. Старайся. Может, приеду когда, к тебе в ученье пойду.
Прохор расстался с Дерябиным в конце сентября 1854 года. «Диана» взяла на буксир остов фрегата «Паллада» и отправилась в путь.
С борта «Дианы» Прохор рассматривал фальшивые пушки «Паллады», сработанные им вместе с другими плотниками для обмана противника. Пушки выглядели как настоящие, и Прохор остался доволен своей работой.
Оставив «Палладу» в Императорской гавани на зимовку, «Диана» продолжала путь в Японию. Прохор не сидел без дела: на корабле работы хватало. А в то же время на мысе Куегда Дерябин стучал топором на постройке шхуны-баржи «Лиман», шутливо прозванной «Бабушкой».
Капитан Лесовский благополучно привел «Диану» в Японию. Но в один из декабрьских дней того же 1854 года случилось необычайное происшествие, превратившее Прохора, как и всех остальных членов экипажа «Дианы», в участников большого и трудного дела. И если оно явилось для русских людей испытанием их мужества, проверкой находчивости и мастерства, то для японцев оно открыло первую страницу в истории их отечественного судостроения. А случилось вот что.
В бухте Симода, где стоял фрегат «Диана», разразилось морское подводное землетрясение огромной разрушительной силы. Город Симода был обращен в развалины. Море поглотило и тяжело израненный фрегат.
Когда на борту «Дианы» стало очевидным, что гибель фрегата неизбежна, команде было приказано оставить корабль. Ожидая своей очереди на спасательную шлюпку, Прохор заметил, как лейтенант Можайский — любимец команды — бросился вдруг в свою каюту, хотя путь к ней преграждала вода. Напугавшись, как бы с лейтенантом не случилось беды, Прохор кинулся вслед за ним. Можайский хватал с полки какие-то книги. «Видать, очень важные, коли он так из-за них рисковал», — подумал Прохор.
Можайский и Прохор с трудом выбрались из каюты. Лейтенант держал над головой книги, оберегая их от воды.
Когда весь экипаж перебрался на берег, Прохор спросил Можайского про спасенные книги. Лейтенант рассказал, что книги эти — «Морской сборник». В одной из них подробно описана шхуна «Опыт», имеются и чертежи к ней. «Попробуем по ним построить шхуну, да и возвратимся домой», — сказал Прохору Можайский.
Команда погибшей «Дианы» поселилась теперь в бухте Хеда. Здесь только и было разговоров, что о предстоящей постройке шхуны. Умелых мастеров — судоплотников, кузнецов, такелажников, слесарей — для этого дела было много: недаром же Степан Степанович Лесовский с таким тщанием и дальновидной предусмотрительностью комплектовал команду. Мастеров, подобных Прохору Калитаеву, капитан выискивал успешно, у него на умельцев был наметанный глаз. Вопрос заключался в том, разрешат ли японцы строить на их территории русский корабль, и если даже разрешат, то найдутся ли для этого необходимые материалы.
Разрешение на постройку было получено, и вскоре на берегу закипела работа.
Шхуну, заложенную в Хеде, кто-то сразу же окрестил по имени бухты, где она строилась. В создании «Хеды» участвовали и японские мастера. Они внимательно приглядывались, изучали, спрашивали, записывали, рисовали. Видно было по всему: они учились. Русские моряки не собирались делать из строительства корабля никакого секрета. Офицеры и матросы охотно и бескорыстно объясняли, показывали, помогая японцам освоить передовое для своего времени кораблестроительное дело. Посланцы России предметно обучали японских судостроителей секретам постройки килевых кораблей для плавания в открытых морях. До русских японцы подобных судов никогда не строили, они умели делать лишь плоскодонные небольшие корабли для плавания в пределах своей родины. Но не только созданию прочного килевого корпуса научили наши моряки японцев, а и различным подсобным работам, без которых невозможно судостроение: токарной обработке дерева, паровому гнутью досок для обшивки, смолокурению, спуску корабля на воду и многому другому. А когда «Хеда» была построена, ее создатели великодушно подарили японским мастерам сделанный матросами токарный станок, различные приспособления и инструменты.
Читать дальше
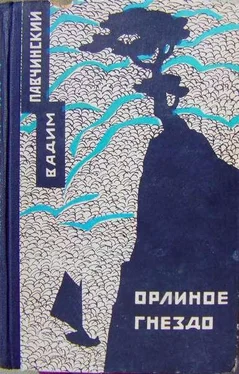

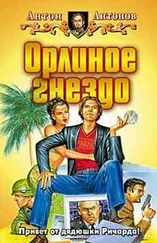

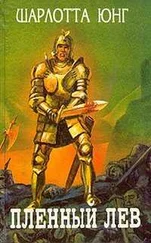
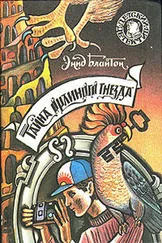
![Джек Хайт - Орлиное царство [litres]](/books/432628/dzhek-hajt-orlinoe-carstvo-litres-thumb.webp)