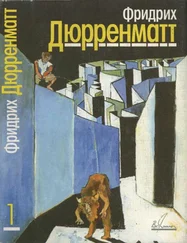Но удачи не было, она ушла от них, исчезла. Опять комбайн без конца цеплялся за огнивы. Приходилось ему самому, — не был уверен, что кто-нибудь вдруг да пойдет молча, не обронив недовольное слово, — самому вырубать их. А затем «зажало» бар на низком, сдавленном месте, и снова простояли час. А время шло, хоть медленно, но шло, и снова вышло так, что не смогли за всю смену проехать и двадцати метров.
Уставшие, поднялись на-гора, наскоро помывшись, собрались в раскомандировке. За окном — ночь, в вестибюле погашены огни, горит свет только в коридоре да у них на участке.
Поднял трубку Василий, позвонил начальнику участка. Василий Иванович будто ждал, тут же подал голос, выслушал и тихо, но каждый слышал, сказал:
— Выходите с утра.
— Как это с утра? — Кто-то взглянул на часы: — Через пять часов?
— А когда же отдыхать? Вчера не спали, сегодня опять.
— Найдут людей, незаменимых нет.
— А ну, Василий, звони Котову: не согласна, мол, бригада — и баста.
Анатолий Гусев потянулся к трубке, сам решил позвонить, но Василий руку положил на его ладонь.
— Подожди, подумать надо.
— А чего ждать, чего? — не выдержал, закричал Анатолий Гусев. — Скажи нам, бригадир!
— Да, скажи нам, Вася, ждем.
Мы были несправедливы тогда к нему, будто он был в чем-то виноват, будто он должен был решить за нас, как нам поступить дальше. Не подумал никто, что ему куда тяжелее, чем нам. Даже лучший друг его Анатолий Гусев не сдержался, а что спрашивать с остальных? «Ведь правы же они все, — думал, наверно, в те минуты Василий. — Поднять трубку и позвонить Котову: пусть сам решает». Ждут ребята, и я жду: как поступит Василий, что скажет?
Ничего не сказал Василий, вышел из раскомандировки и лег в вестибюле на лавку. Ясно было, бригадир остается, пусть каждый решает, как ему поступить.
— Эх! — махнул рукой Ганин. — Цепь от электропилы возьмете в номере, а я домой пошел. Хватит, надоело. — И не оглядываясь заторопился из раскомандировки.
И пошли за ним остальные. Куда — домой или в вестибюль, чтоб где-нибудь в укромном местечке прилечь на скамью? Я не вышел из раскомандировки, голову склонил на стол, забылся.
Разбудил меня резкий телефонный звонок. Поднял голову — сидят напротив Гусев, Заболотнев, Ерыкалин. Кто-то и позади меня сидит, но некогда повернуть голову, так как взял трубку Василий Бородин, слушает, что говорят ему.
— Директор шахты потревожил, — сообщил бригадир. — После работы к себе на разговор приглашает.
— Давно бы пора.
— На одну совесть нечего бить.
— Нам такая жизнь ни к чему.
— Пусть он без жены две ночки не поспит, как жена-то взглянет, а? — это уже голос Червоткина.
И снова зашумели, но шум этот был не вчерашний — раздраженный, а другой совсем — деловой, уверенный.
Подходили другие ребята, опоздавшие к смене, последним пришел Михаил Ганин.
— Явился не запылился. А мы-то уж подумали, что жена тебя придавила к стенке шибко, а ты ничего, еще молодцом, — засмеялся Червоткин, не скрывая ни перед кем своей радости.
Да, шли мы в то утро снова все вместе, как всегда, шли уверенные, что если не сегодня, так завтра обязательно, во что бы то ни стало, выведем участок из прорыва.
…И опять остановка. Но не заспешил вниз горный мастер, дал условный сигнал машинист шахтных машин: кончился порожняк, можно и отдохнуть.
Сдвинулись ребята в кружок, и уже кто-то зашуршал бумагой — доставал тормозок, предлагал тому, кто находился поближе, и Николай Червоткин уже рассказывал про какого-то Морозку:
— Иду я как-то с работы, смотрю — притулился кто-то к пускателю, фуфайкой закутался, даже головы не видать, посапывает. Мимо прошел — никакого внимания к моей особе. Вернулся я, снова прошел. И опять никакого внимания. Что за черт, думаю, уж не медведь ли залег тут на спячку? Кинул камешек — не ворохнется даже. А цепь брякает — бряк-бряк, а он, значит, свое продолжает — храп-храп. И это среди бела дня? Возмутился я тут окончательно. Дай, думаю, проверю. Не поленился, выключил конвейер, и вдруг в тишине наступившей басом так кто-то говорит: «Не балуйся, включи». Я аж подпрыгнул, такого совсем не ожидал. «Ты что, не спишь, что ли?» — кричу ему больше от испуга. «Да нет, холодно мне», — и поежился. У меня тут и вывались с языка: «Эх, Морозка ты!» Так и прилипло к нему это словечко — Морозка да Морозка.
— Уж не Востряков ли был? — полюбопытствовал кто-то.
— Так ведь не разобрал, ребята, лица своего он мне не показывал, — простодушно согласился Червоткин и первым же засмеялся.
Читать дальше
![Кирилл Усанин Разбуди меня рано [Рассказы, повесть] обложка книги](/books/203688/kirill-usanin-razbudi-menya-rano-rasskazy-povest-cover.webp)

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)
![Валерий Казаков - Асфальт и тени [Рассказы, повесть]](/books/28694/valerij-kazakov-asfalt-i-teni-rasskazy-povest-thumb.webp)
![Сергей Кузнечихин - Блюститель [рассказы, повесть]](/books/31549/sergej-kuznechihin-blyustitel-rasskazy-povest-thumb.webp)