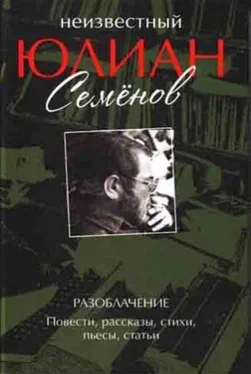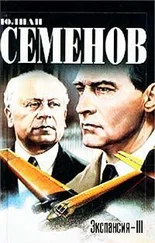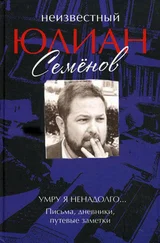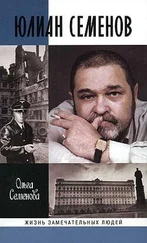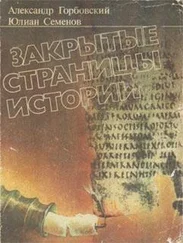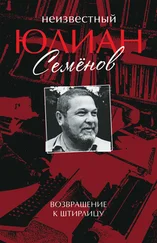Барон вздохнул:
— Обломов не в Цюрихе родился... Здесь помер бы в одночасье.
...Шаляпин пружинисто поднялся (я ощутил плечом, как он собирался перед тем как вальяжно, вневозрастно встать), подошел к камину, поправил дрова: взметнулся столб траурных черно-красных искр: я вспомнил, как мастера, делавшие мне камин на Пахре, учудили два колена, — «все тепло уйдет в одночасье, какой смысл в том, чтоб дрова горели?» Камин дымил, не работал, высился ДОТом, пока дочь не разрушила его, и мне стало мучительно жаль мастера Данилыча, человека совестливого, который то вентиляторы какие-то устанавливал для тяги, то трубу наращивал, глядел виновато, но мою просьбу убрать колена считал причудой горожанина, который избалован батареями и теплой водой, дурак дураком...
— Очаг — первооснова бытия, — тихо сказал Шаляпин, не отводя глаз от огня. — Таинство, что соединяет людей в семьи... Символ надежды и, ежели желаете, бесстрашия...
— Старый дом и чашка грога, — прочитал я Пастернака...
— Как это чудесно, — вздохнул барон, — жид, а писал, словно эфиоп, никто так Россию не чувствовал, как Пушкин и Пастернак... Помню, ко мне прилетел профессор Зильберштайн, чуть не на колени стал: «Продают книги из дягилевской коллекции, помогите России, барон!» И — заплакал! Он плакал, господа! В вашем министерстве культуры, — барон посмотрел на меня глазами, в которых закипели слезы, — несчастному Зильберштайну не дали денег, он был серый от волнения, ручки свои ломал на груди, молил, — «помогите, Эдуард Александрович, помогите России...» Меня корили «немцем», его «жидовством»... Конечно, я дал ему денег, несколько тысяч франков дал, поехал с ним, спасли ценнейшие фолианты...
Шаляпин осуждающе посмотрел на меня, словно я был министром культуры:
— А что ж он кулаком по столу не стукнул?! Рабство, вековечное рабство в нас видит... Я помню, как отец режиссировал в парижской опере... Если кто мешает делу или пассивен — это тоже помеха — не важно, кто был, директор или дирижер, он спуску никому не давал, — работа прежде всего. Помню, приведет с собою Коровина и Билибина, ругается так, что люстры дрожат: «Окно нарисовал не там! Эта дверь будет неудобна певцу! Как в этой мизансцене со светом работать?!» Невероятно был требователен к окружающим, потому что прежде всего был требователен к себе. Я тогда жил у него в Париже, он на моих глазах работал над Кончаком, Боже, как это было поразительно! Во всем методе Станиславского следовал, боготворил его, а тот учил: коли не знаешь, как играть роль, пойди к товарищу и пожалуйся... Начнется беседа, потом непременно случится спор, а в споре-то и родится истина. Вот отец и выбрал меня в качестве «товарища-спорщика». Начинали мы обычную нашу прогулку от Трокадеро, там поблизости его квартира была, спускались вниз, и как же он говорил, как рисовал словом! Он великолепно расчленил образ на три составные части: каким Кончак был на самом деле, каким он видится зрителям и каким его надобно сделать ему, Шаляпину. Он ведь грим Кончака положил в день спектакля, без репетиции, это ж немыслимый риск, господа! А почему он на это пошел? А потому, что был убежден в своем герое, видел его явственно... Сам себе брови подбрил, сам подобрал узенькие брючки и длинную серую рубашку, ничего показного, все изнутри. Он и на сцене-то появился неожиданно, словно вот-вот спрыгнул с седла, бросил поводья слугам, измаявшись после долгой и сладостной охоты... Прошел через всю сцену молча, а потом начал мыться, фыркал, обливая себя водою, наслаждался так, что все в зале ощущали синие, в высверках солнца студеные брызги... И обратился-то он к Игорю не торжественно, по-оперному, а как драматический актер, продолжая умываться: «Ты что, князь, призадумался?» Ах, какой тогда был успех, Евгений, какой успех... Но я тем не менее рискнул сказать ему после премьеры: «С театральной точки зрения ты бедно одет». Отец не рассердился, промолчал, а потом купил на Всемирной выставке красивый, бухарский халат. Его-то и надевал после умывания... Театр — это чудо... Надо, чтобы люди воочию видели, как Кончак из охотника превращается в вождя племени, в могущественного хана... Он, отец, ведь ни в библиотеках не просиживал, ни к ученым за консультациями не ходил, он мне тогда оставил завет на всю жизнь: «Искусство — это воображение».
— Избрал тебя в собеседники, оттого что ты был молодым голливудским актером? — спросил барон.
Федор Федорович досадливо поморщился:
— Да нет! Я был его доверенным лицом, неким Горацио! Русский и еще интересуется историей, сын, наконец, со мною можно было говорить как с самим собою... Да и вкусы одинаковы... Только раз я испытал некоторую дискомфортность, когда сказал, что цирк развлечение не моего вкуса. Отец даже остановился от изумления. Долго молчал, а потом грустно промолвил: «В твоем возрасте я был потрясен цирком... Вот что значит воспитание». Отец рос среди подонков общества, а я — благодаря его таланту — в цветнике... Впрочем, Дягилев как-то меня поправил: «Не в цветнике, а в самом утончен ном розарии». Кстати, вы знаете, господа, что Серж Лифарь намерен пустить к продаже пушкинские письма из дягилевской коллекции?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу