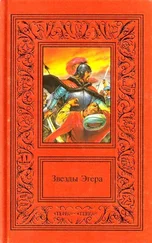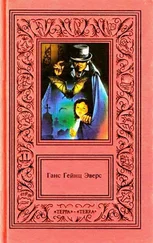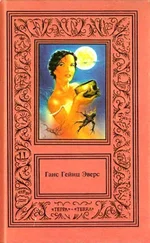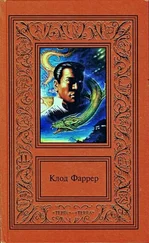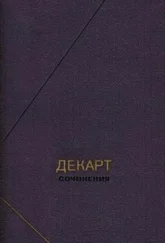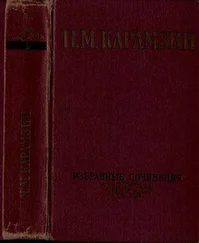Я сижу перед высокой доской. За окнами — синее утро. Сзади — дружное дыхание малышей. Их много — все крепкие, вихрастые пареньки.
Я поднимаю книгу и говорю громко, чтобы слышали все, до самого маленького чумазого мальчугана в уголке:
— История — это наука, которая доказывает, что мы, рабочие, самые законные хозяева земли.
За окном колеблется зеленая ветвь, солнечный свет льется от нее, как дождь; розовый дым стелется над крышами поселка, И совсем близко, вокруг меня, воздух начинает петь и качаться.
Это утро. Очевидно, еще с вечера меня перенесли в палату. Здесь белый, спокойный свет. Но воздух продолжает греметь и качаться. Дрожат стекла. Веселыми басами поет гудок.
Несколько раз я открываю и снова крепко зажмуриваю глаза. Левая рука лежит сверху, на одеяле. Она перевязана у локтя. Она цела. Я могу двигать пальцами и даже сжимаю кулак. Мне приходится изо всех сил прижаться головой к подушке. Радость вот-вот сбросит меня с кровати. Я лишь немного приподнимаюсь, чтобы поправить одеяло, и вижу свои ноги. Они тоже целы. Теперь мне совсем трудно улежать на месте. Я кусаю губы.
«Тише… Да тише же… Так», — И глотаю горячий соленый пот. Он льет ручьями. Уже стала мокрой подушка.
«Скорей бы встать…»
Проходит много времени, и я наконец опять спокоен. Можно вспомнить все последовательно и подробно, все вчерашние мысли, весь этот страшный экзамен, который кажется только сном. Но я хорошо знаю — это не сон. Пусть идет время. Я буду жить, жить, жить — и никогда не умру, никогда!
ПАВЕЛ, ТАНЯ И Я
В тот день я возвращался домой очень рано. Вечерняя смена еще не шла к рудничным воротам. Блеклое солнце стояло над курганом, окутанное рыжей мглой зарева. Оно как бы тонуло в своем разливе.
Эти последние вечера поздней осени были тихи, розовы и пахучи. В них струилась затаенная грусть невозвратности, смутная тревога, эхо приближающейся зимы.
В безлиственном парке на склоне между поселком и рудником плыл душный и клейкий аромат молодых тополей. Кажется, в этом году они распускались вторично. Терпкое их дыхание было приторно. Оно оседало в гортани сладковатым привкусом, проникая в легкие скользким малярийным холодком.
Усталый, я шел по главной аллее. На стоптанных булыжниках, на выцветшей земле тихий ветер шевелил опавшие листья. Бурые, скрученные, они стрекотали жестяным звуком детских погремушек.
Закрывая глаза, я удивлялся странной податливости земли; от каждого шага она покачивалась, пружинила, подобно шахтной клети.
Чтобы утихло головокружение, я повернул в сторону, к черным кустам маслин, и лег в сухую траву, зарывшись лицом в измятые стебли. Так я долго слушал тихие шорохи и хрусты.
Огромный, налитый багровым соком, как виноградная ягода, муравей карабкался по шатким стропилам травы. На обгорелом лезвии пырея он долго шевелил жесткими щипцами челюстей; вытягивался, пробуя передними лапками воздух.
Я следил за ним бессознательно: тяжелая боль застыла во мне. Нет, — повторял я себе снова и снова, — об этом не стоит думать, время — лучший врач. Павла все равно не вернешь, — и оставался единственно с этой мыслью.
Гибель его была так неожиданна и так чудовищно нелепа.
Сегодня в полдень, когда мы шли на работу, Павел пел. Высоким хрипловатым тенорком он запевал «Златые горы». Его жена, веселая Танюшка, провожала нас до самых ворот рудника. Вечером она выйдет к калитке палисадника и будет ждать его к ужину. А сейчас, в эту минуту, она спокойна, наверное, готовит обед.
И с мыслью о Тане, с хрупким шорохом травы в моих ушах повторялся последний крик Павла. Крик, заглушенный не грохотом, а тишиной, которая рухнула вторым обвалом. Странно, но самого треска оборвавшейся кровли я не слышал. Мы работали вместе, в одном забое. Камень осел рядом со мной беззвучно, мягкой тенью. Раздался крик. Потом отзвук, лихорадочный, как продленный звон разбитого стекла.
В первые минуты нельзя было понять, звенит ли это известняк, или срывается капель, или придавленный глыбой, но еще живой, стонет Павел. То пел камень, лопнувший, как струна.
Я бросился в штрек. За мной прибоем качнулась ночь: лампа, забытая в забое, уже была разбита породой. На рельсы штрека вылетел забойщик Мороз. Он работал уступом ниже. Здесь, у рештаков, в свете электрической лампы, я необычайно ясно запомнил его лицо. Оно было необыкновенно длинное, серое, как и борода, с опустевшими глазами, и единственное, что жило в нем, — это кровавые ободки век. Он поранил руку. Срываясь с рукава его рубахи и мелко дробясь на глянцевитом полотне рельса, мягко стучали торопливые капли. Через минуту мы вернулись к завалу. Из соседних лав на помощь нам бежали товарищи.
Читать дальше