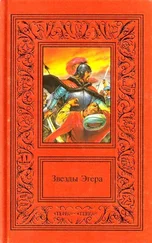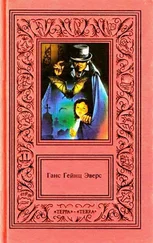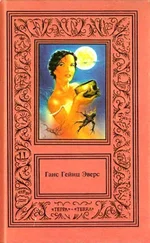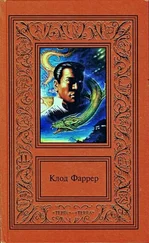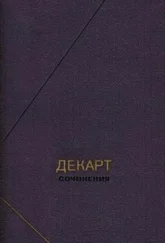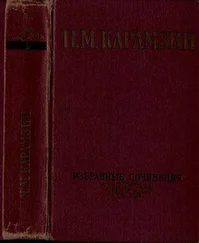Навестив рабфак, мы, «согласно плану», направились в баню, купили мочалки и мыло и, сбросив свои тяжелые от цементной пыли пожитки в соседние рундуки, минуту-две беседовали с длинным прыщеватым парнем, который почему-то заинтересовался, кто мы, откуда, где работаем, и даже спросил, по каким дням у нас бывает получка. Глаза парня были покрыты масляной пленкой, и, когда он смеялся, криво растягивая губы, прыщи на дряблых щеках, приплясывая, сбегались. Лицо становилось очень смешным, но масляные глаза не смеялись: они словно бы высматривали какую-то цель, терпеливо, опасливо и напряженно.
Я от души похвалил Филиппыча за «банную идею»: душ хотя и не врачевал нашего душевного недуга, но приносил физическое облегчение, и мы наслаждались им не менее двух часов. А потом нас встряхнуло, ударило, подкосило огромное несчастье: и у меня, и у Филиппыча исчезли из карманов деньги. Весь наш трудный недельный заработок, — все до последнего рубля, до последнего гривенника. Вор, по-видимому, нисколько не торопился: со знанием дела обшарил нашу одежду, даже местами вспорол подкладку в пиджаках, взял и мой карманный нож, и носовой платок. Уже явно издеваясь, оставил вывернутыми карманы.
Уронив на пол пиджак, Филиппыч долго сидел неподвижно, и губы его, обожженные известью, беззвучно шевелились.
— Ты знаешь, о чем я думаю? — спросил он, заглядывая в зеркало на стене, где его разрумяненное лицо простого деревенского парня почему-то выглядело удивленным. — Нет, не о погоне за прыщеватым вором я думаю и не о кровавой мести, хотя, пожалуй, смог бы проявить свирепость. Вот уже добрый час мне настойчиво вспоминается выступление чудесного артиста Собинова, которого месяц назад я слушал в концерте, он проникновенно исполнял арию Ленского. — Филиппыч тихонько засмеялся. — Ну, не сумасшедший? То есть не Собинов, конечно, а твой покорный слуга! Очевидно, друг, в мозгу имеются таинственные «громоотводы», которые отвлекают мысль от сознания беды, и потому нам легче переносить всяческие горести и несчастья.
Я сказал Филиппычу, что у меня нет иного выбора, как согласиться с ним, хотя здравым рассуждениям я и предпочел бы хороший обед.
И еще я ему заметил, что мы оба — дремучие идеалисты и вульгарные простаки, так как полагаем, будто мир населен лишь нашими светлыми надеждами; в нем, к сожалению, существуют и малярийные комары, и муха цеце, и скорпионы, и змеи, и воры.
Филиппыч горячо поддержал меня, и, немного ободренные согласием, мы зашагали по улице, не особенно интересуясь, куда она приведет.
Улица привела нас на Страстной бульвар, откуда было рукой подать до Мясницкой, а в притихшем здании рабфака, в своей каморке за вешалкой, Павел Семенович, как оказалось, уже давненько поджидал нас у старенького, веселого, окутанного душистой теплынью самовара.
— Человеческое счастье многообразно и неистребимо, — по-свойски присаживаясь к столу, изрек Филиппыч. — Какие-то три часа назад я равнодушно смотрел на эти сушки, а сейчас мне думается, что вкуснее, пожалуй, ничего и нет.
Степенный старичок, Павел Семенович, любил неторопливый, вдумчивый разговор с философским акцентом, и Филиппычу это, по-видимому, было известно. Размеренно прихлебывая из блюдечек янтарный чай, они завели беседу о науке, и, прислушиваясь, я поражался тихому старичку: он лично и коротко был знаком с виднейшими учеными Москвы — профессорами, академиками, запросто называя некоторых по именам — Володя, Коля, Миша… Он прослужил в гардеробной МГУ почти полвека и помнил их еще студентами: не случайно минувшей осенью сам Анатолий Васильевич Луначарский, прибывший на рабфак с лекцией, издали узнал Семеныча, завернул к нему, поклонился и пожал руку.
И снова меня удивил мой Филиппыч: нет, он пригласил меня сюда не только попить чайку, — мы пришли за советом. Но когда он успел приметить этого славного дедушку, обвыкнуться в его каморке, найти тон, затронуть интересы, подобрать «ключи»? Впрочем, дедушка был не так уже и простоват: он легко разгадывал Филиппыча и, быть может, от скуки тешился с ним, как с котенком. Резко меняя тему, он вдруг прямо спросил:
— Значит, голубчики, срезались? Что ж, не вы первые, не вы и последние. Наука — она мать строгая и любит, чтобы человек все свои заботы ей отдавал, а вы где-то на вокзале хлопочете, и, значит, не полный у вас к науке интерес.
Филиппыч почему-то промолчал, но я не стерпел, возразил славному старичку, нарушив этикет чаепития в его каморке, и он резко, надменно взглянул на меня через плечо.
Читать дальше