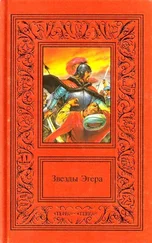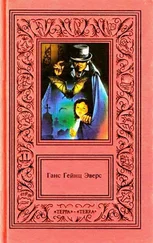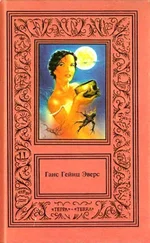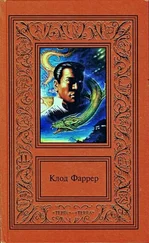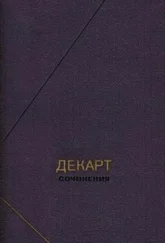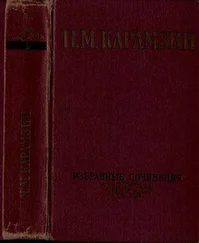До чего же рассудителен и житейски цепок оказался этот светлолицый, улыбчивый Филиппыч! Я горячо одобрил и сметку его, и хватку и сказал, что не стану лишним человеком в артели имени доброго богатыря, а он, поразмыслив, предупредил:
— Только не жадничать. Не забывать, зачем в Москву-то пожаловал.
Несколько озадаченный его словами, я заметил Филиппычу, что жадность к работе — не в укор.
— Будем считать, что ты уже числишься в муромчанах, — сказал Фнлиппыч. — Но помни, что с появлением денег возрастают и потребности. Черен студенческий хлебушко, а случайные, да еще «фартовые» подработки могут, брат, сбить с дороги.
И Филиппыч стал рассказывать о своем земляке-стихотворце Василии Семяшине, как он отправился, тихий, скромный Васенька, пешим порядком из дальней костромской деревеньки в матушку Москву и как предстал здесь, лет пять назад, в лапоточках и с котомочкой за плечами, перед маститыми собратьями по перу, умилив и растрогав их аржаными духмяными виршами.
Те добротные вирши вскоре были напечатаны в журнале «Новый мир», а Васенька, получив гонорар, сменил свои лапотки на лакированные туфли, выправил костюм, купил серебряный портсигар и золотой зуб вставил. Поиздержавшись, он призадумался о том, что было бы очень кстати участить и увеличить доходы. В редакции удивились, когда через неделю он выгрузил из объемистого портфеля на стол втрое больше виршей, чем в первый раз, но… вирши оказались и втрое слабее прежних. Все же поэта здесь не обидели: посоветовали учиться, организовали единовременное пособие и даже пристроили в какой-то гуманитарный вуз… Отведал Василий студенческого хлеба и огорчился. Он, видите ли, уже заглядывал и в «Метрополь», и в «Националь»: меню там пообширнее, чем в студенческой столовке, музыка играет, а в «Метрополе» еще и фонтан журчит. Через месяц Васенька временно оставил институт и устроился в кондитерскую. Парень расчетливый, старательный и работящий, он научился изготавливать торты любых сортов и стал солидно зарабатывать. У него появилась комната, потом прикупил и вторую, завез обстановочку — мягкие кресла, старинный комод, клетку с канарейками для своей сельской души, машинку для перепечатки будущих стихов. Уверенный, что оставил поэзию лишь на время, чтобы сначала устроиться в жизни, а потом уже взяться за стихи, он долго вел подготовку: то переставлял письменный стол из угла в угол, то заново перетягивал пружины в кресле, то разыскивал не очень большой, но не малый и обязательно светло-голубого тона чернильный прибор. Нужен был прибор именно светло-голубого тона ради соответствия лирической натуре Василия.
Срок возвращения к поэзии Семяшину не раз приходилось откладывать: то заявлялись незваные гости, то самого приглашали на обед или ужин, то подкрадывались досадные заботы о новом костюме, о модном пальто, а годы все шли, шли… Наконец он понял, что больше медлить нельзя: взял месячный отпуск, знакомым объявил, что уезжает на курорт, запасся провизией и закрылся в квартире. Умылся, причесался, выпил для бодрости черного кофе, призадумался, но стихи не шли. Чистая страница, скучая, белела в новенькой машинке, а Васенька сидел перед ней растерянный: что же случилось? Где оно, то щемящее волнение, что когда-то предшествовало строке? Что он позабыл или утратил? Мелькнула догадка, но она показалась страшной.
Все же у него хватило мужества осмыслить свою беду. Он совершил преступление, равное измене: он изменил поэзии. И поэзия умерла в нем. Длинными рублями, мелкими расчетами, плюшевыми пуфиками Василий задушил ее, поэзию, в себе.
Я с удивлением слушал негромкую речь Филиппыча. Какие встречи дарила мне в те дни судьба: что ни человек — открытие! Правда, мне тогда подумалось и другое: не с чужого ли голоса он поучает, безусый мудрец? Филиппыч взглянул на меня и что-то понял.
— Не жадничать, — повторил он строго. — Не размениваться. Не отвлекаться. Я стараюсь внушить это не только тебе, но и себе.
А вечерней зорькой на товарной станции Москва-Рогожская мы сидели с ним рядышком под огромным штабелем пахучих досок в ожидании эшелона с донецким угольком, и было так интересно вглядываться в звездную россыпь над путями, чтобы первому заметить всплеск, нарастание, приближение огонька, — и наудачу распознать его, огонек нашего паровоза.
В тот вечер кто-то из «муромчан» сказал, будто я счастливый, будто, мол, имеется примета. (Вскоре, впрочем, Филиппыч эту приятную примету опроверг). Случилось, что именно со дня моего вступления в артель грузчикам железных дорог повысили расценки. С юга, словно бы прорвав незримую плотину, в столицу непрерывным потоком двинулись составы. На узле впервые недоставало рабочих рук. Семь ночей от сумерек и до рассвета мы несли авральные вахты, не менее напряженные, чем на пожаре. А через неделю, выщелкав на счетах наш артельный «банк», даже бывалый подрядчик крякнул от удивления: мы перевернули гору груза!
Читать дальше