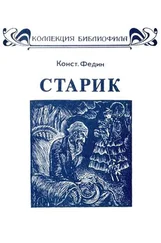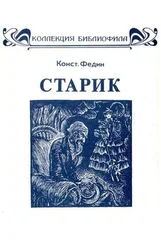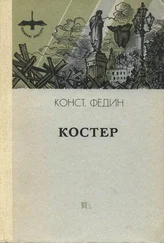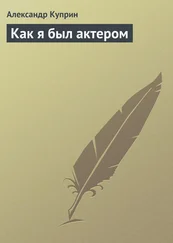Толпа либо не поверила ушам, либо не сразу решила — принять ли случившееся за шутку или всерьез, но секунда прошла в страшном безмолвии, и потом я услышал смех, который, так же как аплодисменты, начался робко и, все быстрее и быстрее разрастаясь, перешел в грохочущий хохот, охвативший меня со всех сторон. У меня не хватило сил сойти с места. Я развел руками, прося извинить меня, а толпа хохотала веселее и веселее, заново радуясь испробованному бодрящему чувству единения и всеобщего родства. Но тут уже и конвоиры с легким сердцем присоединились к веселью, ухмыляясь и закручивая усы.
Будто пьяный, я побрел к бараку. В дверях ко мне подошел молодой солдат. Как на всех пленных, на нем висела шинель, жеваная и сношенная, точно больничный халат, но лицо его было здоровым, глаза — ясными, густая щетина бороды плотной красноватой коркой покрывала щеки. Он ласково спросил меня:
— Упелся, родимый?
Я с удивлением взглянул на него и переспросил хрипло:
— Упелся?
— Ну да. Отпел свое?
Мы вместе вошли в барак, и я опустился на первую нару. Солдат сел рядом и помолчал. Когда время, требуемое приличием, миновало, он сказал:
— Покурить есть?
— Нет.
Он опять помолчал.
— Ну, не горюй, — сказал он, подымаясь с нары. — Приедешь домой поправишься. Мы все там поправимся.
И он положил мне на плечо руку.
Не знаю — почему я вскочил и распрямился. На меня глядели чистые и очень теплые синие глаза, и лицо в красноватой корке бороды спокойно улыбалось. Я снял его руку с плеча и пожал ее сильно.
На дворе заливались гармонии, жадно, со всхлипами, набирая воздух; народ слушал затаившись. Я вышел из барака вместе с солдатом, присоединился к толпе, не испытывая никакого стыда или стесненности, чувствуя себя так легко и просто, как никогда за все время плена и актерства.
Да и правда: плен и актерство были позади, и я ехал домой поправляться.
1930, 1936–1937
Комментарий [3] Комментарий Е. Краснощековой.
Я был актером. — Впервые — «Новый мир», 1937, № 2, с посвящением «Николаю Коппелю, с которым я прожил две жизни». Отрывок — в «Красной газете», 1937, 5 марта.
В основе повести — впечатления 1914–1918 годов, проведенных Фединым в Германии: «В городе Циттау, на границе Чехии, куда выслала меня из Дрездена королевская полиция, оставил и много горя, и много радости: был все эти незабываемые годы гражданским пленным за № 52, был другом немцев-художников и немцев-социалистов, русских-солдат и русских-романтиков.
Поступил хористом в городской театр. Через месяц пел первую партию лорда Тристана Миклефорда в „Марте“. После чего утвердился в амплуа комического баса. Играл в театрах Гёрлица, Аннаберга, ездил с дрянненькими труппами по саксонским селам…» [4] «Литературные записки», Пг. 1922, № 3, стр. 28; см. также автобиографию Федина в кн. «Автобиографии советских писателей», т. 2, М. 1963; статью Вольфа Дюваля «Федин в Германии» в кн. «Творчество Константина Федина».
.
Включая повесть в кн. «Рассказы многих лет», Федин в обращении «К читателю» писал: «…в широком смысле вообще каждое литературное произведение автобиографично: оно почти всегда вырастает из жизненного опыта писателя. Но это не значит, конечно, что фабула произведения непременно пересказывает факты из жизни писателя. Даже в автобиографическом „маленьком романе“ (повесть „Я был актером“. — Е. К. ) нельзя искать сколько-нибудь точной передачи житейских испытаний автора. Действительно пережитое художником лишь просвечивает сквозь отысканные им образы времени» [5] «Литературное наследство», т. 70, стр. 561–563.
.
О, ля-ля, так я создана! (нем.)
Ах, я ведь только поцеловал ее в плечо! (нем.)
Комментарий Е. Краснощековой.
«Литературные записки», Пг. 1922, № 3, стр. 28; см. также автобиографию Федина в кн. «Автобиографии советских писателей», т. 2, М. 1963; статью Вольфа Дюваля «Федин в Германии» в кн. «Творчество Константина Федина».
«Литературное наследство», т. 70, стр. 561–563.