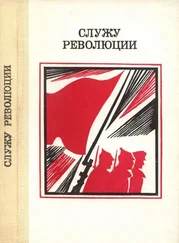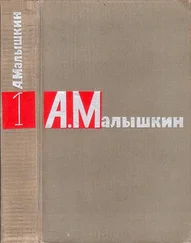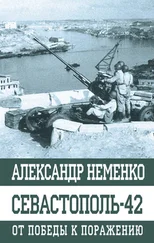— Осторожнее, товарищи! Спать, что ли, на меня легли?
— Брезгуют. Ишь какие мамашины сынки собрались! — заметили сзади с насмешкой.
Солдаты оглядывались недружелюбно.
— А кто же, конешно, мамашины сынки, их сразу видно!
— В окопы бы их наших вшей попробовать!
— Эдаких не пошлют, у них везде ручка.
То были новые солдатские лица, которые так не глядели на Шелехова ни разу. Неужели в этом виновата офицерская шинель?.. Особенно ехидно ворчал один, смирный на вид, с перевязанным плаксивым лицом.
— Значит, им можно слушать, а мы не слушай? А я, може, сам речь хочу сказать! Хрен положишь, теперь господ нет!
Шелехов только молча покосился на него, но солдат уже обидчиво привязался:
— Ты мине не шикай, ты мине рот не зажимай! Я тебе не подчинен — най!
Тихое, сладостное исступление родилось в Шелехове где‑то в глубине — от этих въедающихся в память, притворно — смирных глаз, от поганой тряпицы на щеке… Будь это прежнее время, хоть месяц назад, с каким бы сладострастием, где‑нибудь в строю, крикнул бы, плюнул бы словами в это лицо:
— Подбери губы, с — с-сукин сын! Что, службы не знаешь! Фельдфебель, дай три наряда под винтовку!
…Но вверху внезапно, как залп, воспылал всеми огнями гигантский канделябр, видевший еще балы Потемкина, озарились стены, бурлящее тысячеголовье, и на свету ослепилось, забылось сразу все. На хорах, высоко над толпой, показался Трунов. Новая форма, непривычная еще, оттеняла угреватое лицо — оно было изгрызано от волнения синеватыми пылающими пятнами. Не офицерским жестом сбросил он фуражку с головы.
— Товарищи, мы получаем крещение здесь, — крикнул Трунов, — здесь, в колыбели революции… Нас производит в офицеры не самодержавный деспот, а народ! И мы… в большинстве своем дети народа… студенчество… всегда ставившее целью своей… И наш пламенный огонь любви к народу и революционному отечеству… понесем…
И опять гремела и гневно восклицала марсельеза, бурлило ослепленное роскошным светом солдатское море, орало, восторгаясь:
— Рр — р-а!
Штатский сменил Трунова:
— Военный министр, Александр Иванович Гучков, звонил и просил передать, что, к сожалению, его задерживает срочное заседание Военно — промышленного комитета. Немного позже он приедет лично поздравить морских офицеров с производством, приказ о котором уже подписан.
Жидко раздалось «ура», кричали одни офицеры. Да, они теперь уже по — настоящему были офицерами. Потрясенного Шелехова кто‑то увлекал из толпы, шепча на ухо:
— Пойдем скорее, там ужин дают.
В темноватых переходах дворца свежее вздохнулось. Шли у подножия каких‑то лестниц, уводящих в сумеречные этажи, мимо многих, гудящих голосами дверей. За одной из них открылась солдатская столовая, с мокрыми клеенчатыми столами, с согбенными и стоячими солдатскими фигурами, с запахом постного масла. «Вот хорошо, — вспомнил Шелехов, — поесть бы…» И уже привычно целился глазами, ища свободный стол, но его повели куда‑то дальше.
Где‑то в конце запутанных коридоров офицеры вошли в комнату, полную народа, мягкого света и столов с множеством чайных стаканов и еды. Тут были исключительно свои офицеры, которые уже пили чай и ели. Тут были и барышни в белых передничках и лакированных туфельках, которые прислуживали, как и в солдатских столовках, но уже иначе, обращаясь с офицерами как с равными, кокетничая, лукавя, чувствуя себя женщинами, за которыми ухаживают.
Невольно вспомнился первый вечер в Петрограде после революции, столовка в подвале, барышня с челкой. Нет, теперь было совсем не то. И Шелехова охватило приятное, лелеющее возбуждение, какое бывает на вечерах, — приятное опьянение нарядным веселым многолюдьем, говором и светом.
Одна из барышень уцепила его пальчиками за рукав шинели и, полуобнимая, толкала между столиков:
— Сюда, сюда, прапорщик, скорее, наверно проголодались!
Она усаживала за стол, подвигая к нему какие‑то тарелки, хлеб, касаясь совсем близко тревожащим непозволительным своим теплом.
— Консервы в ящике, вот тут; откупорьте сами, товарищ, вы сильнее!
Для Шелехова это звучало так:
«Какой вечер, какая молодость, как в смутной радости хорошо встречаются глаза!»
Угощали давно не виданным: на столах лежал белый хлеб, масло, стояли банки с вареньем, ящики были полны консервов, и можно было брать всего сколько угодно. Здесь была комната для избранных, и офицерам это нравилось: почет, отдельность, потому что офицеры. «Сглупил Елховский!» — подумал Шелехов. Революция была уже не такая сумбурная и унижающая вещь: лучшие традиции соблюдались, черт возьми!
Читать дальше