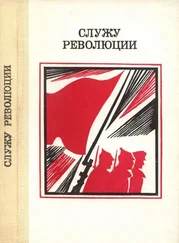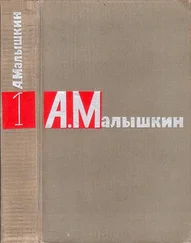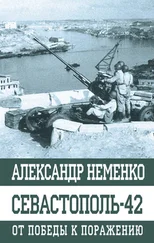Шелехову стало и удивительно и невыразимо приятно: сегодня будто сдвинулось что‑то в мире, он стал своим, стал ровней всем им.
Но в то же время было и немного стыдно — вот этих, забегающих перед шествием, оборванных, по — ребячьи глазеющих солдат, тех самых, вместе с которыми он прожил в матросской шкуре две беззаботных бродяжьих недели. Теперь он уходил, и им одним оставалась голодная слюна, бегущая при виде незатейливых столовочных яств, вшивая солдатская жисть… Что он мог поделать!
Блистающие погонами ряды гостеприимно замедлили, принимая его, становя рядом с Софроновым. Под музыку закинулась так же голова, как и у других, опустились убаюканно веки…
Марсельеза!
Марсельеза, опьянелая от бунта, тоже с полузакрытыми глазами, шатаясь, вела вперед, и руки ее были простерты к высоте:
Вставайте, дети отечества,
День славы настал!
Колонны Таврического дворца стояли по колена в тысячной толпе. Там вышли встречать. Дальше было небо революционного Петрограда, тусклое, смеркавшееся от дыма близких заводских окраин. Еще дальше — десятиверстные погосты столицы, относимая ветром в поле ее чадь и муть, и поезда, убегающие в свежеющую там, деревенскими огоньками подрагивающую Россию…
Широк мир, велик его ветер!
Под колоннами поневоле задержались. Толпа надавила со всех сторон, растиснула ряды и прежде юнкеров, нисколько не считаясь с ними, топя их в своей давке, ворвалась в зал. Это было досадно, нарушало стройность праздника.
Все же Шелехов с благоговением вступал в просторный сумрак дворца.
Высочайший зал походил на огромный, плохо освещенный собор. Эти стены видели историю, Екатерину, вельмож, сановников, депутатов. Здесь, в одну недавнюю ночь, душно и обреченно сперлись штыки Волынского полка. И сейчас, здесь же, вот за этой, может быть, дверью, работали те, которыми бредила улица, о которых кричали газетные листки. Из внутренних комнат иногда пробегали по делу штатские, в одних пиджаках, страшно спеша.
Шелехов провожал каждого глазами и, если кто пробирался через расступающуюся толпу уверенной поступью, почти приказывающе — вероятно, из апартаментов Совета рабочих и солдатских депутатов, — спрашивал себя с трепетом, глядя ему в спину:
— Керенский?
Народа вливалось все больше и больше, высокие двери стояли настежь, оттуда несло холодом, вдруг поднявшейся метелью, и за метелью по улице проходили знамена. Половодно кишело на лестницах, ведущих на хоры, кишело вдоль стен, по коридорам: все были на ногах, кого‑то ждали.
— Поехали за военным министром!
На лестницу барственно протолкался дородный в смокинге, обвел глазами — собирался говорить.
— Родзянко, — зашелестело в толпе.
Гул постепенно замер, офицеры вытянулись, прижав руки по швам.
— Комитет Государственной думы приветствует вас, молодые офицеры. В тяжелую годину вступаете вы на свой ответственный пост. Родина, истекающая кровью, терзаемая внешним врагом, ждет от вас…
Офицеры кричали «ура», поднимая фуражки над головой, изящно придерживая их пальцами, затянутыми в кожаные перчатки. Бурей ревели солдаты. Крики марсельезы прорывались сквозь гул, как пламя.
В ушах звучало непривычно: «Молодые офицеры»… Так называли их еще первый раз. Не под ногами ли тут, где‑то неподалеку, плескалось, осыпалось волшебным бирюзовым прибоем? И корабли уходили в солнце…
Вставайте, дети отечества,
День славы настал!
Расколыхнув толпу, Родзянко сошел к генералу, и они пожали друг другу руки — оба, знающие высоты государства, почетности, власти, — они пожали друг другу руки особенно, как никогда не мог бы сделать Шелехов или этот сброд в папахах, простосердечно восторгающийся всем. Фотографы со ступеней лестницы ловили аппаратами зал, вспыхнул ослепительно — лиловый магний, юные лица были белы, как мел, сияли глаза. На верхах России был этот вечер.
— Давайте министра!
— Министра!
— Гучкова, ура!
Солдаты, от которых трудно было отделаться, поддерживали:
9 — Гучкова, бис!
На лестницу на руках вынесли еще какого‑то оратора, пожилого человека, без шапки, с серыми всклокоченными волосиками вокруг лысины; сказали, что это Чхеидзе. Человечек прилежно кричал что‑то, очень далеко, словно за метелью, словно лаял. Он говорил о де мократии, о задачах революции — Шелехов уловил только одно отчетливое слово: «батальоны революции». Он понял, что это и о них, и его охватило приятное, поднимающее чувство… Досадно лишь было, что солдаты мешали слушать, устраивая кругом смрадную давку и наступая на ноги слякотными сапожищами. Он нетерпеливо стряхнул с себя несколько навалившихся на него локтей и огрызнулся:
Читать дальше