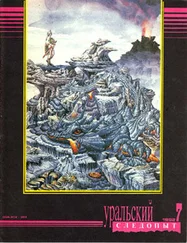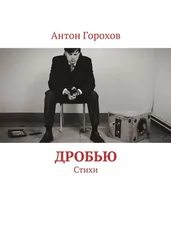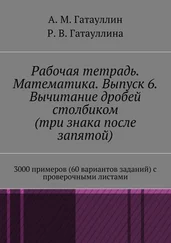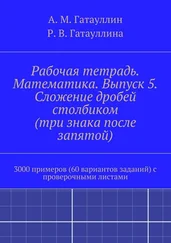Я выключил лампу. Так–то лучше. Тем не менее, стыд стоял огромным колючим комом где–то в районе мечевидного отростка.
Мне предстояло еще выйти из комнаты и повидаться с мамой. А ведь накануне меня почти досуха выпили призраки вины, страха, детской обиды и стыда перед ней за мое несоответствующее ни возрасту, ни статусу, ни моими перед ней обязательствами, ни положению на эволюционной лестнице… В общем, за мое неподобающее и отвратное поведение мне было не по себе, стыдно перед матерью — перед единственным человеком, перед которым мне не стыдно испытывать стыд, иметь обязательства и, наверное, какой–то сыновий долг (правда я не знаю в чем он заключается, но я уверен, что он есть и состоит как минимум в том, чтобы оправдать ожидания или хотя бы не слишком низко пасть, а я пал уже достаточно низко).
Я поднялся с постели, пол подо мной слегка вращался, будто кто–то хотел закатить меня в лунку, но я, скооперировавшись со своим вестибулярным аппаратом, сопротивлялся этому как мог. И вот я уже прошел сквозь зал, в котором отчим сидел с газетой у работающего телевизора, в той же позе, что и вчера, будто бы и не прекращал разгадывать свои японские головоломки. Он и в этот раз не поднял на меня взгляда, ему в этой жизни уже на многое было плевать, человек, доживший до пенсии, неплохой пенсии, надо сказать, благодаря стажу, вредному производству и так называемым «северным». Он ни о чем не беспокоился, не строил планов и перспектив, о смерти ему тоже было рановато думать, несмотря на два инсульта на почве чрезмерного потребления алкоголя. Он просто проживал дни, один за другим, никуда не торопясь, ни к чему не стремясь, не имея амбиций и фундаментальных замыслов. По сути, он уже умер, как член общества, как индивид, как саморегулирующаяся, саморазвивающаяся система. Он просто доживал, время от времени уходя в запои, скорее всего, от чувства собственной никчемности, отсутствия смысла и любых намеков на динамику и развитие событий в его уже очерченной толстым контуром жизни. В какой–то степени я ему завидовал. Пассивный. Почти Обломов.
То ли дело моя мать — деятельная, всегда стремящаяся и строящая пестрое будущее, имеющая надежды даже в самые темные и бесперспективные периоды существования нашей семьи. Она всегда чем–то занималась, делала ремонт, планировала переезд, пыталась открыть торговую точку, увлекалась то буддизмом, то фэн–шуем, то вязкой, то лепкой, постоянно читала, занималась спортом, ходила летом и осенью в лес и прпрпр. Быть может только в последнее время тот самый провинциальный экзистенциализм, годы и опыт слегка сломили ее, но она всегда была сильной, уверенной в себе женщиной, одной из самых сильных людей, которых я когда–либо встречал. Я всегда и во всем ей подражал, даже мое увлечение книгами и чтением — ее заслуга: я не помню ни одного дня, когда я бы не видел ее с книгой в руках, она всегда что–то читает, будь то третьесортный отечественный детектив, томик Уильяма Берроуза или книга о домоводстве, пчелиных ульях или кришнаизме. И именно этого человека я каждый день подводил и вот — подвел в очередной раз, разочаровал, заставил волноваться, а этого мне бы хотелось меньше всего. Именно это предчувствие, нарастающее ощущение осязаемого недовольства превратило мой путь до кухни в один из самых труднопреодолимых промежутков пространства.
Итог: я на кухне. Запах стряпни, запотевшие окна, шум льющейся струи воды, гам и звон посуды в раковине, своеобразная уютная утренняя суета. На плите несколько кастрюль, на столе разделочная доска, остатки нашинкованных овощей, под ногами крутится кошка, запах средства для мытья посуды, лимонный, бумбокс на холодильнике крутит диск с аудиокнигой Алиена Карра «Как бросить курить» (еще один этап безрезультатной 19летней борьбы с пагубной привычкой).
Я очень хотел пить, меня мучал невообразимый сушняк, но что еще страшнее — в моей глотке прочно засела просто бесчеловечная, испепеляющая горло изжога. Но вот так вот взять и налить себе полный стакан воды и жадно к нему присосаться я не мог, это было бы чересчур нагло и опять же неуважительно. Это было бы так, будто я мало того, что не стыжусь своего аморального образа жизни, так и, как ни в чем не бывало, заявляюсь в святая святых — кухню — и пью из святого источника своими грязными, оскверненными алкоголем и наркотиками губами. Это уже не лезло ни в какие ворота.
Меж тем молчаливая война продолжалась. Увидев меня на кухне, мама опять обронила всего одну фразу, что–то вроде «Опять прогуливаешь?». Я неопределенно мотнул головой, что–то среднее между отрицательным покачиванием и утвердительным кивком, то есть я сперва начал было мотать головой, но потом кивнул, тем самым породив загадочный, невнятный, как и я сам, жест. Ведь на самом деле, я и не знал, прогуливаю я или нет, отчислен я или еще студент. Да впрочем, не важно, мама к тому моменту на меня даже не смотрела.
Читать дальше