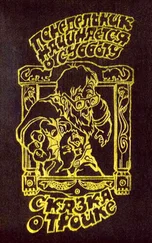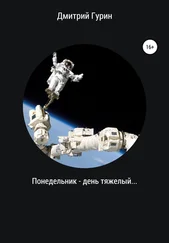И все чистая правда. Отец, хотя беспартийный, готов был за Советскую власть жизни решиться. В сорок первом тут же после объявления по радио побежал в райвоенкомат. Да не взяли, спасибо, сказали, дед, управимся без тебя…
Вот какая была наша семья. Когда я Косте иногда пытаюсь рассказывать — верит или не верит, не знаю, но по-чему-то усмехается…
А бабушка по матери? Дожила до ста двух годов. Умерла скоропостижно, в одночасье, как тогда говорили. Вытаскивала из печки большой чугун со щами, схватилась за грудь и говорит младшей дочери своей Федосье, которой шел седьмой десяток:
— Феня, милая, что-то я занедужила…
И все.
Между прочим, бабушка купила себе гроб, когда ей было лет пятьдесят, и поместила его на чердак. Когда я еще от стола два вершка был, присылали меня родители к бабке в гости. И я, и другие внуки выклянчивали нехитрое деревенское лакомство — моченый горох. Мой Константин его и в рот не возьмет, а мы любили, особенно если в меру посолен.
— Возьмите, чертенята, в домовине…
Мы на чердак с кружкой, жутковато немного, гроб белеет, не что-нибудь, зачерпнем гороху — и сами, как горох, вниз, скорее в кухню.
Случалось, умирали в деревне люди. Зимой еще ничего, можно обрядить как следует, а летом, в страду, торопиться надо. Приходили к бабушке:
— Марья Гавриловна, уступи гроб!..
Бабушка охотно уступала, затем, получив положенное, боже упаси лишний грош переполучить, ехала в уездный город и приобретала новую домовину. Уступила она таким образом штук тридцать или сорок.
В глубокой старости пристрастилась бабушка к водочке — чекушки хватало ей на два дня, а по воскресеньем употребляла целую. Правда, по постам не баловалась. На масленой в прощеное воскресенье опрокинет полбутылки, и на семь недель зарок — до пасхи ни капли. И деда так воспитала.
К пасхальной заутрене ходила с чекушкой в кармане. Как только «Христос воскрес» объявят, она скорее протолкается на паперть, ладошкой по донышку стукнет и прямо из горлышка буль-буль — разговелась! Дед рядом, черед ждет… Остатки допьет, папироской задымит, тоже разговеется — весь пост не курил.
Года за два до кончины бабушки навестил я ее и привез подарок — два пол-литра с белой печатью и головку голландского сыра, это у нее вторая была страсть — сыр… Сидим, шутим, про гробы вспомнили. Она наклонилась ко мне и доверительно шепнула:
— Внучек, миленький, я ведь ее раз сорок обманула…
— Кого, бабушка?
— Ее… Смерть-то мою… В моих-то гробах других хоронили…
Вот так бабушка!
Частенько навещает меня воспоминание об одном дне молодости.
Летом дело происходило… Я тогда еще с моей супругой в знакомстве не состоял, был влюблен в Варю Котову. Редкой красоты была девушка. Не сладилось у нас. Но суть не в этом. Уговорились мы большой компанией на лодках в субботу вечером уехать и ночевать в лесу. Все приготовили, лодки под профсоюзные билеты заказали, снеди накупили, немножечко спиртного, две гитары, гармонь. Сбор в восемь вечера у лодочной пристани. Я за неделю устал и, придя со смены, после обеда устроился подремать в гамаке под липами.
Проснулся — тишина! Выскочил из калитки на улицу — тишина! Луна полная, круглая, по небу плывет, на небе ни облачка. Судя по всему — часов двенадцать. Ночь сереб ряная, и главное — тишина. И теплынь. И все как в сказке…
Возможно, и даже наверное, этот вечер никакого особого счастья мне не принес бы. Погуляли бы, у костра посидели, рыбы половили, песни попели, все, как всегда. Но я до сих пор помню свою обиду, словно меня лишили в эту ночь самого большого счастья. Проспал! Все проспал — Варю Котову и серебристую тишину.
Я к матери с претензией:
— Не могла разбудить!
— Жаль было. Очень сладко спал.
До чего же хорошо я тогда жил! Я любил, меня любили, друзья были. Как мы во все верили! Какие песни пели:
Наш паровоз, вперед лети
В коммуне остановка,
Иного нет у нас пути,
В руках у нас винтовка…
Как сумасшедшие были от радости, от сознания, что мы живем в нашей стране, что нам еще жить и жить.
Одно время секретарем укома комсомола был у нас Володя Смирнов. Росточку небольшого, рыженький, весь в веснушках, носик крохотный, остренький, один глаз с косинкой. Носил кожаную тужурку, кепочку. Со стороны посмотреть— хохлатый воробушек! Стоило Володе подняться на трибуну, и все забывалось — голос у него был потрясающий, сильный, глубокий.
Умен был наш Володя, начитан. Какие речи произносил. После собрания песни пели, и Володя запевал:
Читать дальше
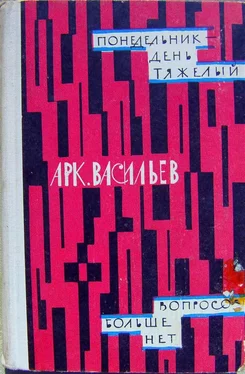



![Аркадий Васильев - Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет [Авторский сборник]](/books/25082/arkadij-vasilev-ponedelnik-thumb.webp)