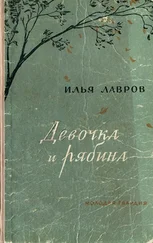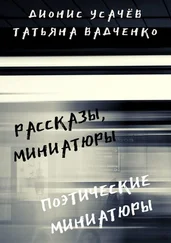— Пойдем, пойдем, — прошептала Дашенька и потянула отца за руку. И столько таинственного было в ее голосе, что Вьюков тоже шел, замирая от шороха, от хруста сучка.
Они скользили все дальше и дальше между кедрами.
— Я еще мальчишкой был — шептал он, — и однажды меня с дружком застала в лесу такая же ночь. Нам будто глаза завязали. Налево пойдем — стена кустов, направо — путаница ветвей, прямо двинемся — стволы как частокол. Падали несколько раз, исцарапались, колени ободрали. Пришлось нам сесть и ждать рассвета. А осень была, дул ледяной ветер. Спичек у нас не было. Думали, окоченеем. А потом, чуть посветлело, видим: Петушки рядом.
Дашенька тихонько засмеялась. А Вьюкову так стало славно, что он удивился: «Я чувствую себя счастливым! С чего бы это?» Еловая лапа, как щетка, прошлась по его лицу. Ударился плечом о ствол, запнулся о пенек.
Дашенька шлепнулась на какой-то сушняк. Он звонко затрещал. Потом залезли в такую чашу, что запутались в невидимых ветвях. Дашенька повалилась и повисла на них, как в гамаке. Зашуршал какой-то зверек.
— Папа! Ты где? — в радостном ужасе прошептала Дашенька.
— Здесь, — как леший, прохрипел Вьюков.
— Ой, да ну тебя, страшно!
Они взялись за руки и, оберегая глаза, на ощупь выбрались из кустарника, побежали. И обоим казалось, что кто-то беззвучно мчится за ними, сопит сзади, вот-вот схватит.
Выскочили на поляну, к срубу в огненных пятнах.
И правда, как избушка на курьих ножках, — громко проговорил Вьюков.
— Вот здорово! — Дашенька шумно дышала от бега и от пережитого страха. — А дед-скороход сейчас где-то идет и идет в свой Владивосток.
— Он сейчас где-нибудь храпит, — откликнулся Вьюков, и ему вдруг захотелось тоже идти и идти. Пусть бы не кончалась дорога в Петушки.
— А в лесу, в темноте, кто-то шевелится, дышит, — проговорила Дашенька.
— Но-о!
— Вот честное слово! Я своими ушами видела… ой, слышала!
Вьюков засмеялся, по тут же оборвал смех.
— Никогда мы с тобой море не видели, — вырвалось у него грустно.
— Ну так пойдем! Мимо Петушков прямо к морю пойдем. Пешком. Как дед-скороход!
Котелок с кашей над костром пыхтел точно паровозик, выбрасывая клубочки пара…
Неплохо устроились они в срубе на скрипучих мостках. Дашенька забралась в спальный мешок, а Вьюков набросал рядом мху, веток, вместо подушки приспособил рюкзак, накрылся плащом. Они лежали как в вагоне на верхней полке. Снизу пахло щепками, новыми бревнами, таежной землей.
— Папа, ты с мамой поссорился? — спросила Дашенька.
— Нет-нет, — торопливо ответил он.
Их лица были рядом, и Вьюков чувствовал на щеке ее теплое дыхание.
— А почему она кричала: «Жрите меня с костями»? — Дашенька спрашивала серьезно, с недоумением.
Вьюков молчал. Внезапно зашумел редкий, но крупный дождик. Большие капли звучно защелкали по тесовой крыше и тут же затихли: тучка унеслась.
«Сколько можно обманывать? Ну, месяц, ну, три. Все равно рано или поздно придется сказать, — в смятении думал Вьюков. — Лучше уж сразу…»
— Видишь ли, Дашенька, — осторожно начал он, — мама… Она больше с нами… — И не нашел в себе силы нанести удар ребенку. — Она поехала далеко-далеко. Ее послали… в Москву. Учиться. Она будет учиться. А я не пускал ее. Вот она и сердилась. Поняла? Я не пускал ее. А она в Москву…
— Зачем же она поехала? — Дашенька вздохнула и вдруг жалобно протянула: — Я к маме хочу!
— Мы с тобой будем жить. И с бабушкой, — как можно веселее заговорил Вьюков. — Мы с тобой заживем на славу.
— Я к маме хочу! — Дашенька заплакала.
— Что ты, глупышка! — Вьюков сел, свесив ноги с подмостков. — Я буду работать в Петушках. Заведующим клубом. А ты будешь учиться. И нам будет весело. Поняла?
— Я к маме хочу! — Дашенька плакала долго, неутешно, томимая неясной тоской и тревогой. И даже заснув, она все всхлипывала и сильно вздрагивала.
А Вьюков задыхался от жалости к ней, от ненависти к жене, от безвыходности положения. Из души исчезло все хорошее, что дали ему дорога в Петушки, Дашенька и человек, ушедший во Владивосток.
Вьюков уже не думал о себе, ему было плевать на себя, он думал только о Дашеньке.
Чтобы вызвать еще больше отвращения к жене, он стал вспоминать все ее поступки. Она вечно блажила, выкидывала нелепость за нелепостью. Все у нее было не как у людей.
Одно время увлеклась парашютным спортом. Стала ходить в аэроклуб, прыгала с вышки. Но когда дело дошло до самолета, он, Вьюков, приложил все усилия, чтобы она бросила эту затею. «Какая тебе польза от этих прыжков? К чему они? — наседал он на Люсю. — Что за удовольствие рисковать жизнью? Разбиться хочешь? Забыла о ребенке?»
Читать дальше
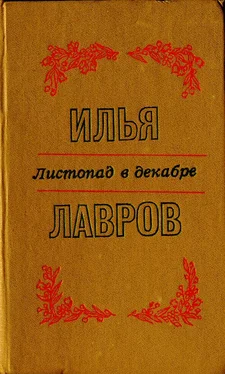
![Франц Холер - Президент и другие рассказы, миниатюры, стихотворения [Сборник]](/books/32748/franc-holer-prezident-i-drugie-rasskazy-miniatyury-thumb.webp)