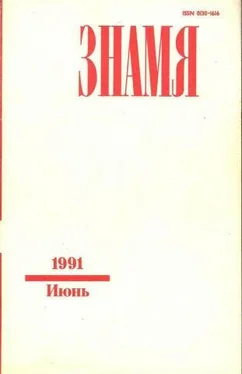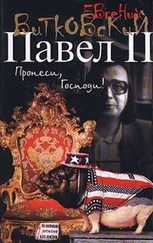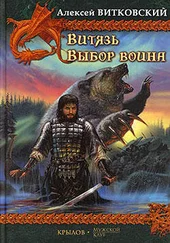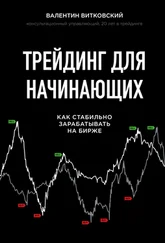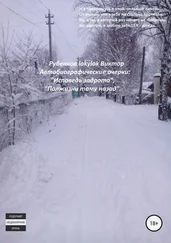Теперь на прииски ведет асфальтированная дорога, и вместо «дырки в небо» стоит современный поселок.
Вернувшись из ссылки и довольно помыкавшись без дела, — никто не хотел брать бывшего ссыльного, — я устроился на химический завод в Средней Азии. Поработал там год, и одолела старая мечта — вернуться в Москву на научную работу.
Но в январе 1931 года очередная волна арестов вторично бросила меня в тюрьму. Тюрьмы были забиты до отказа. Меня поместили в камеру, очевидно, наспех приспособленную из небольшого подвального помещения, выходившего единственной маленькой четырехугольной отдушиной на Малую Лубянку. Это окошечко до сих пор смотрит на улицу грязными стеклами за толстыми, ржавыми прутьями решетки. И все так же ходит в» этом месте часовой.
Что-то сильно изменилось с 1926 года. Камера была полна. Заключенные тесно лежали на двухэтажных нарах. Говорили вполголоса, атмосфера царила угнетающая.
Объяснения начались быстро и энергично, как в детективном романе. Оказывается, я был деятелем разветвленного антисоветского заговора… изобретал яды для уничтожения членов правительства… в заговоре участвовали военные… за ними по пятам тенями скользили невидимые шпики… теперь все уже выяснено, и не хватает только нашего признания.
Увы! Я ничем не мог помочь следствию и только утверждал, что никакого заговора не знаю и с заговорщиками не общался.
Много позже — через 30 лет — из постановления Верховного суда я узнал, что заговорщиков было 33, дело по их числу называлось «делом тридцати трех» и что заговора вообще никакого не было.
Следствие вела бригада молодых забористых хлопцев под руководством белокурого, рослого, красивого, как викинг, начальника. Жалко было смотреть на него в затхлой атмосфере следовательского кабинета. Ему бы в туманах северных морей бить китов и моржей, а он пропадал в охоте за призраками.
Следователи допрашивали по очереди. Но каждый начинал с того, что я рецидивист и буду наказан особенно строго. Некоторые сразу многозначительно выкладывали на стол наган, некоторые просто предрекали расстрел, но все требовали одного — признания в преступлениях, а в каких, не говорили — сам знаешь.
Допросы велись только по ночам. Многие всю ночь. На измор. Но — сидя.
Через месяц меня как «отработанного» перевели в Бутырки, в такую же камеру, в какой я побывал пять лет назад. Нары теперь были двухэтажные. Часть заключенных спала прямо на цементном полу, некоторые — без всяких подстилок. В камере при мне было от 60 до 80 человек; среди них несколько профессоров, преимущественно технических специальностей, не меньше пятидесяти инженеров и немного военных, писателей, артистов. Недаром тюрьмы в то время именовались остряками «домами отдыха инженеров и техников». Уголовников не было совсем. После внутренней тюрьмы здесь было шумно и весело. Каждый вечер устраивались какие-нибудь доклады, поэты читали стихи, писатели рассказывали, артисты изображали и даже негромко пели.
Клопы нас не беспокоили, а вшей мы и вовсе не знали.
Голодных не было. Многие получали передачи; подкармливали тех, кто их был лишен.
Почти все заключенные того времени быстро сдавались на следствии и подписывали обвинения.
И был ли смысл бороться?
Все очень хорошо усвоили уроки Шахтинского и Рамзинского процессов: уцелеть можно, только оговорив себя и других. Кто пытается сохранить свое достоинство — погибает. Никто не обманывался насчет истинной цены этих признаний. Некоторые переживали свое падение трагически; большинство махнуло рукой на этическую сторону вопроса: против рожна не попрешь!
По-видимому, разномыслящая, немного анархическая и не привыкшая к дисциплине интеллигенция стояла кому-то поперек горла. Ее нужно было уничтожить физически или морально, дискредитировать, лишить давнего ореола передовой части народа.
Я не захотел стать на проторенную дорожку и был наказан: получил расстрел с заменой десятью годами и «центральный запрет». Значение этого термина выяснилось только впоследствии.
На все про все потребовалось около 4-х месяцев.
Только в конце апреля мы оказались в поезде, мчавшем нас в Соловки.
Ехать было очень удобно. Этап разместили не в специальных арестантских «столыпинских» вагонах, а, по «нехватке последних, — в обычных классных. Только окна были взяты в решетки, да в тамбурах стояли часовые.
У каждого была своя полка, еды вдоволь, народ очень хороший.
Читать дальше