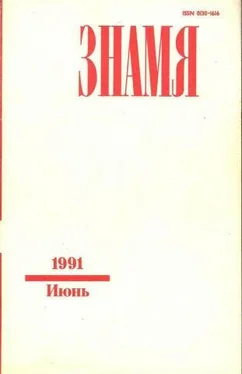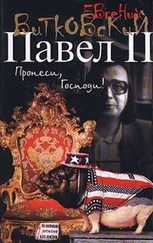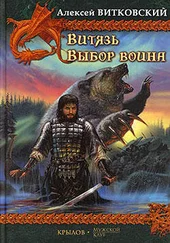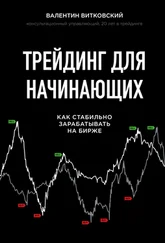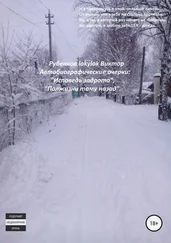Дмитрий Витковский
Полжизни
Небольшая автобиографическая повесть Дмитрия Петровича Витковского (1901–1966), неизвестная пока нашему читателю, стоит у истоков «лагерной» литературы.
На первых страницах книги «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицын упоминает Витковского как человека редкостно разнообразного лагерного опыта, чьими свидетельствами пользовался автор и кого желал бы видеть редактором своего труда. К моменту, когда эти строки писались Солженицыным, Дмитрия Петровича уже не было в живых.
О своей жизни он лучше всего рассказал сам, и я могу лишь добавить что-то из раннего к ней пролога и позднего эпилога.
Юный Витковский учился в кадетском корпусе, но по страстному тяготению к точным наукам стал студентом Высшего технического училища: слушал лекции по химии у профессора Чичибабина. Учение прервала революция и война, однако тяга к знаниям у Витковского была такая, что он отправился через всю страну, пылавшую пожарами междоусобной войны, в Томск, где в 1918 году еще продолжал работать университет. Захватив Томск, колчаковцы провели почти поголовную мобилизацию студентов, и восемнадцатилетний Витковский ненадолго оказался в белой армии, что потом роковым образом сказалось на его судьбе.
В редакции «Нового мира» Витковский появился в 1963 или 1964 году, вскоре после публикации «Одного дня Ивана Денисовича». Не помню, кто передал мне эту рукопись, кажется, она попала из редакционного «самотека». В ту пору пошла первая волна «лагерной» прозы, рукописей на эти темы прочли мы в редакции немало, но эта выделялась не только поражавшей воображение долгой тюремно-лагерной судьбой автора, но и тем, как этот человек воспринимал жизнь.
В своем совсем скромном, почти аскетически сжатом повествовании он не жаловался, не проклинал судьбу, что было бы вполне естественно в его положении, и не сосредоточивался лишь на своем страдании: по-своему воспринимал людей, природу и правдиво описывал то, что видели глаза и оставляла ярким и живым память. Пейзажи Соловков, Енисейского ледохода и северного сияния в Заполярье отмечены были живописной пристальностью. Было ясно, что они служат не для расцвечивания сурового рассказа «художественностью», а являют собою след неубитой духовной жизни, несломленности в придавленном и оплетенном лагерной системой человеке.
Не могло не поражать и то, что свою тюремно-лагерную Одиссею, где были Бутырки и Владимирская тюрьма, Беломорканал и Соловки, Тулома и Енисей, автор уложил в каких-нибудь сто машинописных страниц: взыскуемая большими мастерами сжатость повествования, необманный знак литературной силы.
Витковский не склонен был прощать своих мучителей и предъявлял самый жесткий счет к тому порядку вещей, который отнял у него «полжизни». Но желания быть справедливым к людям и их поступкам он не потерял: в его интонации не было озлобленности, а лишь глубокая, неискоренимая скорбь по несовершенству человеческой природы и общественного уклада, так легко узаконивающего всякое насилие и издевательство над себе подобными. И тем дороже для автора любое проявление человечности и добра: его благодарная душа видит то, что другой бы не заметил.
Помню, мнения в редколлегии о повести Д. Витковского тогда разошлись, кто-то углядел в ней даже «эсеровские ноты». Но Твардовский решительно встал на мою сторону. Он пригласил автора, обласкал его, как один он умел это делать, когда вещь ему нравилась, и заключил с ним договор.
Однако напечатать рукопись оказалось тогда невозможным. С каждым месяцем усиливались атаки на журнал за публикацию солженицынского «Одного дня…», и, как невесело шутили в ту пору, редакции пришлось бы отвечать за превращение «Нового мира» в журнал «Каторга и ссылка».
И все же редакция не отказывалась от надежды напечатать повесть «Полжизни», буде случился бы какой-то цензурный просвет, а Дмитрий Петрович временами навещал нас в Малом Путинковском. Во всей манере поведения этого когда-то обладавшего несокрушимым здоровьем, а теперь тяжко больного, усталого человека были редкие у авторов позднейшей формации свойства русского интеллигента: такт, деликатность, всякое отсутствие навязчивости и доверие к собеседнику. Он не дергался, не торопил, не упрекал редакторов в чрезмерной осторожности и медлительности. Не спрашивал поминутно: «Ну, как там моя рукопись?». Или: «Когда же наконец напечатаете?» Поднявшись ко мне в комнату (два марша лестницы были для его истраченного сердца немалым испытанием), он просил разрешения посидеть молча и отдышаться.
Читать дальше