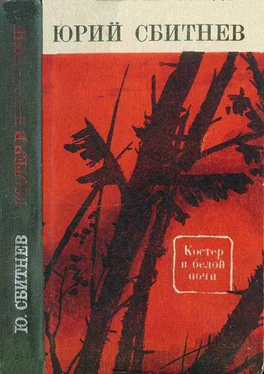— Нега Власьевна. Вы ко мне от кого? От Иван Иваныча?
Я, почему-то смутившись, пожал ее плоскую, шершавую, словно бы вырубленную из елового корья, ладонь и признался, что завернул сюда на плач.
— Выходит, к учителю шли. Ага? А я решила, что от Иван Иваныча — секретаря райкома нашего. Он всегда у меня стоит, когда тут бывает. Да и другие командировочные; у меня навроде почище, чем у других. Да и мокрец сюда не залетывает. Чисто тут от мокреца, а ниже, — она повела рукой в сторону убегающих под яр домов, — страсть как лютует.
Я поспешил изъявить желание остановиться у нее:
— Думаю отдохнуть денек-другой от дороги, неделю целую таежничал один.
— Ну что ж, вставайте, я не против. Проходите, — к пропустила меня вперед в узкие рубленые сенцы.
В передней горнице было чисто. По сибирскому обычаю, глухие нераспахивающиеся рамы были чисто побелены, а стекла тщательно вымыты мелом, кое-где в пазах он белел тоненькими полосками. Большой, вероятно, сработанный еще прадедами стол выдвинут почти на середину комнаты и опрятно холодел выскобленной до блеска столешницей. Две крашеные лавки со спинками (их почему-то называют в деревнях диванами) стояли по обе стороны стола и два табурета по торцам. Пол был прикрыт мягкими цветными пестрядинными ковриками, а под лавками затейливые половички из оленьих шкур. В горнице пахло топленым молоком, таежной свежестью и хлебом. Вспомнив о том, что прусь в дом как был, в сапогах, я попятился в сенцы, чуть было не столкнув хозяйку.
— Чо вы? — удивилась она, посторонившись.
— Разуюсь. Ишь как чисто у вас.
— Да какой чисто. Три дня не метено, не мыто.
Разувшись и скинув в сенцах штормовку, я снова вошел в избу и присел на диван. Хозяйка стряпала за ситцевой занавеской в маленькой кухне.
— Отдыхайте. Я чичас перекусить схлопочу чиго нито.
— Спасибо, спасибо, — только и мог что сказать и снова принялся оглядывать нехитрое убранство передней горенки.
В красном углу по обе стены были развешаны в крашеных рамках почетные грамоты и свидетельства. Убранные под стекло и развешанные так, что на них не падал прямой солнечный свет, были они словно только что снятые с типографского станка. Ярко горели на плотной бумаге знамена с тяжелыми золотыми кистями, колосились снопы, ясными были портреты Ленина и Сталина на тех, что поправее в самом углу, полевее только с одним портретом, а совсем левее только с серпом и молотом, без портретов. Одна рамка, особенно большая и праздничная, занимала весь угол, где обыкновенно стоит в старых деревенских домах икона, и, как икона, была в окладе чистого вышитого затейливым узором полотенца. Я поднялся и подошел к этой особо чтимой грамоте. С нее в ярких знаменах, в снопах зрелой пшеницы, под золотым серпом и молотом, в простом, аккуратно застегнутом френчике улыбался Сталин. «Свидетельство», — прочитал я не выгорающее золото букв. И вдруг повеяло на меня от этого хранимого документа какой-то необыкновенной свежестью, чистотой. Будто бы сохранился в нем по сей день тот детский трепет перед великим, незыблемым.
— Это первая, когда сельхозвыставку открывали в тридцать девятом, — послышался за моей спиной голос хозяйки, и я снова уловил в нем нестерпимо скрываемые слезы. — В Кремле вручали.
— Интересно, — как-то обязательно, по-казенному прогнусил я и продолжал смотреть на свидетельство, не видя ничего, только чтобы не встретиться с глазами хозяйки.
— Я тогда из нашего угла в Москву два месяца добиралась. Все-все впервые видела — и пароходы большие, и поезда, и дома каменные, — она тихонечко позвякивала посудой, накрывая на стол, — а было мне тогда пятнадцать. Правда, председатель наш два годочка накинул. Прошло. Я рослая была, спелая. Никто меньше восьнадцати мне и не давал. Я с четырнадцати лет в доярках и по се время. Ох, ежели вам рассказать, чо в Кремле-то было. Чо было-то, чо было, — вдруг как-то задористо, по-молодому выкрикнула она и неожиданно горько: — Неучена. Не расскажешь.
— Простите, вас так и звать Нега Власьевна? — спросил я ее, когда мы, отобедав свежеприсоленной рыбой и кислым молоком, пили чай.
— Меня все Негой зовут, без отечества. Так и вы кликайте, — не поняла она вопроса.
— Нет, я не о том. Деревня у вас — Нега, и вы тоже…
— А, вот вы о чем! Это имя наше — здешнее. Корень наш еще от казаков. У нас и речь своя. Слыхали, верно. Только я после тридцать девятого года много на разных слетах и съездах бывала. От речи-то своей отбилась. Одно только, что гладко говорить стала, а так всю жизнь у коровьей сиськи. Я и сейчас план даю.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу