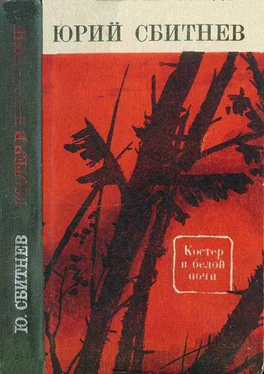Чиронина песня никого не удивляет. К ней привыкли, словно бы к плеску Авлакан-реки в непогоду, к шуму тайги, к тому, без чего не может жить Нега. Только иной раз не от интереса — от болезного участия спросит соседка Матрену Андронитовну:
— Чо — поет?
— Поет, — откликнется и махнет рукой, будто отводя от себя не похожий ни на что живое мужнин голос.
Стекла в окнах Чирониной избы по причине летнего времени все до единого выбиты и не прикрыты ни пестрядью, ни газетными листами, ни каким другим «подсобным средством», как это делается с наступлением холодов. Довольно просторная изба лишена переборок и заборчиков: года два назад в лютую здешнюю зиму, оставшись без дров, пожег их Чироня и не соберется поставить новые. Одно неудобство от них: по темному да хмельному времени мордой тыкаться. А морда, она хоть к тычкам и привычная, а все-таки жаль… своя…
Как залился Чироня к старым баням, так жена его Матрена Андронитовна все до тряпки разнесла по соседкам, попрятала, покидала, чего-нито в ветхий, давно не смоленный и не конопаченный шитик, забрала детей и уплыла вниз по Авлакан-реке в село Буньское, к начальнику милиции. Будет опять слезно просить там, чтобы выселили мужика ее или в тюрьму бы определили. И конечно же майор Глохлов разведет руками перед глупой бабой. Не жулик Чироня, не бандит, не драчун, не хулиган даже. Ни под одну статью закона подвести его нет возможности. Есть, правда, закон о пьяницах, совсем недавно приняли, чтобы принудительно лечить от водки. Так ведь если по нему действовать, всю Негу под корень вывозить надо.
В лучшем случае соберется в дорогу Глохлов. Сядут они в дюральку, заведут мотор «Вихрь» и прикатят в Негу на третьи сутки. Будут ходить по деревне с управляющим отделением промхоза Иннокентием Кирьянычем, он второй год в Неге держится. Приехал гладкий, упористый, работу ладить. Теперь отощал, замаялся. Грудью страдать стал. Мужики его жалеют. Когда трезвые, даже в глаза стыдятся глядеть, обещают за ум взяться. А попадет шлея под хвост — загорчат на неделю, а то и больше, и дела никакого.
Так вот, приедет Глохлов, будет ходить он по дворам, срамить, на чем свет стоит, мужиков. Разобьет, искурочит донельзя самогонный аппарат.
— Чей он?
— Обчества! Обчественный, стал быть…
— Кто гнал?
— А нихто. Обчество.
Заколготят бабы.
— Мой гнал, — одна.
— Мой, — другая.
— Мой, — третья.
А потом рассорятся, и выходит, что один мужик другого совратил, а другой первого. Поди разберись, кто виноват.
Дня через два наведет Глохлов порядок. Собрание соберет. Иннокентий Кирьяныч скажет тихо, так жалостливо поначалу, а потом до слез в голосе сорвется, зашумит, чтоб скрыть, что лопнуло его терпение.
— Да что же это, товарищи? У всех косьба, а у нас гульба. Ни стожка сена не накошено, ни плахи дров не заготовлено. Детей бы пожалели, школу-то топить надо. Гляньте — трава что тайга густющая. День-другой пройдет, ляжет. Чем скотину кормить будем? Зимовейки по угодьям охотничьим как решето. Где зимой охотиться будете?
И долго еще в этом духе говорить Иннокентию Кирьянычу, загибая пальцы да похудевших руках: то не сделано, это, другое…
Но все впереди, все еще будет. А пока сидит Чироня на грязном полу, и тянет горлом свою песню, и плачет чистыми слезами от музыки и слов, что слышится ему в его воспаленном, душном, оглушенном мозгу. И леденеет сердце от этого голоса, и хочется бежать к Авлакан-реке, к тайге ли, к лугам ли, к людям.
Я иду от избы к избе. Будто вымерла Нега, ни души; И только гремит, рушится, терзает сердце, преследует меня в июльской знойной тиши песня Чирони.
Старуха встретилась. Прикрылась от солнца костистой, будто из глины лепленной ладонью. Пробежалась по мне стариковским прищуром глаз. «Одежа вроде бы казенная (на мне защитная штормовка, резиновые с подворотом охотничьи сапоги). Не здешний, не авлаканский. Надо быть, начальник (скользнула по пистолету-автомату, навязал мне под расписку в райотделе милиции Глохлов — в тайгу едешь, надежнее, чем карабин)».
— Нельзя ли водицы, мамаша?
— Можна, можна. Чичас, чичас. Проходите.
В избе душно. Мухи черной тучей роятся на столе, кишмя кишат плотной завеской по стеклам. На полу, раскинув руки, спит молодой парень. Лицо его, в черной шерсти, дергается, гримасничает, как у больного тиком. Пригляделся — не борода, это мухи, черные, липкие, копошатся на мокром от пота лице.
Принял из рук старушки кружку, зеленую, с побитой эмалью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу