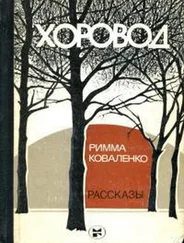Девочки засмеялись. Мать вошла в залу. Лукьяныч поднялся, с лица еще не сошло оживление от разговора. Девочки тоже поднялись. Томка уставилась на бабушку, мол, явилась, ничего хорошего уже не будет.
— Смотрите так, будто и не ждали, — сказала мать, — а ждать надо было, я не только тут живу, я, между прочим, тут еще и хозяйка.
— Пошло-поехало, — сказала Томка, — теперь будешь утверждаться на наших костях. Пошли, Лариса.
Они ушли, а Лукьяныч опустился на стул, покосился на меня, сложил перед собой руки на столе.
— Переживаешь за Николашу? — спросила мать. — А чего за него переживать? Жив-здоров, голова кудрявая, сел на мотоцикл и укатил.
— За тебя переживаю, — ответил Лукьяныч, — не можешь ты по-настоящему доброй быть. Я же к твоей Томке как к родной отношусь.
— Намекаешь, что вот она, — мать вытянула палец в мою сторону, — денег на Томку не всегда дает, что девочка на нашем живет?
— Что ты городишь? Какие деньги? Я их всю жизнь свою не берег. И тебе денег не жалко на шубку Катеньке, ты отца ее полюбить не можешь. Привык, говоришь, с детства двум дядям в карман глядеть. А что двухлетним в землянке жил, что матери лица не помнит — это мимо сердца твоего проходит.
— А какое мое лицо Рэмка помнит? С голоду какие лица бывают, знаешь?
Мать заплакала. Лукьяныч подошел к ней, положил ладони на ее голову.
— Сил никаких нет на вас глядеть, — сказала я, — что вы друг другу сердце рвете? Поженились, так и живите как нормальные старики.
Мать сняла с головы руки Лукьяныча.
— Видали! — Слез на ее лице как не бывало. — Где это ты тут увидела стариков? Лучше сама живи как нормальный гость, раз уж приехала.
Она умела отчуждаться, на словах показывать свою независимость. А Лукьяныч не умел. Страдал за нее, за меня, за Николашу. Мне не нравился Николаша. Рабочий человек, слесарь, а живет, как кулачок, — иметь, иметь, больше ничего в душе не присутствует. Сначала — мотоцикл, теперь — машину, деньги на машину копят, а девочкам на шубки клянчат.
— Ни при чем тут тяжелое сиротское детство, — сказала мать Лукьянычу, когда я примолкла, стала вести себя как гость, — тут что-то другое виновато. Обязаны мы им, обязательство выдали, что будут жить хорошо, лучше нас. А что под этим «хорошо» подразумевать, не обговорили.
…Пятьдесят рублей — деньги не маленькие. Лукьяныч рассказал мне, куда его завели эти деньги. Ходил, думал, где бы достать, и вдруг осенило: «спидола»! Его собственный приемник, который остался у брата Бориса. Приемник — в комиссионку, пока будет продаваться, можно занять. Забота, давившая плечи, свалилась. Лукьяныч позвонил брату, спросил, будет ли тот дома в пять часов. Борис ответил, что постарается.
И в самом деле постарался. К приходу Лукьяныча был уже дома, сам дверь открыл, и жена его тоже в коридоре стояла, улыбалась, встречая дорогого гостя. Вот ведь как все перевернулось. То, бывало» когда он у них жил: Ваня, открой, звонят! Сами никому не открывали. А без него научились, оба выскочили на звонок.
У Лукьяныча не было ни счетов с братом, ни обид, одна благодарность, что приютил, когда ему жить стало негде. Женился старший племянник Феликс, за ним Николаша, и Лукьянычу пришлось искать себе новое пристанище. Для общежития он уже стар, да и негоже было брату директора самого большого в городе завода жить в общежитии. Жена Бориса поставила в комнате без окон, так называемой библиотеке, раскладушку, на ней и стал спать Лукьяныч. Ел вместе с хозяевами. Денег с него ни за еду, ни за квартиру не брали. Лукьяныч оплачивал прежнюю свою квартиру, а остальные деньги от зарплаты отдавал племянникам.
Женитьба самого Лукьяныча упала на всю семью обидой и позором. Это было со стороны Лукьяныча не просто неприличным поступком, это было безумством. Тайком, за его спиной, снарядили к невесте жену Бориса, она должна была раскрыть глаза моей матери на всю абурдность этой затеи. Мол, Лукьяныч — бирюк, нелюдимый человек, кроме племянников, в его сердце никого нет и быть не может. Жена Бориса взяла коробку конфет, бутылку вина и на такси подъехала к дому невесты. Пробыла там минут пятнадцать, коробку привезла нераспечатанную, а бутылка, как она потом рассказывала, «летела через кухню, через крыльцо и посреди двора — вдребезги». Уже после свадьбы кое-как помирились, ходили друг к другу в гости, носили цветочки до того самого застолья в доме Бориса, когда Лукьяныч дернулся на звонок, хотел бежать в прихожую, открывать дверь запоздавшему гостю. Мать сказала: «Сиди. Невеликие бары, сами откроют». В тот вечер Борис и жена его окончательно с ней поссорились.
Читать дальше