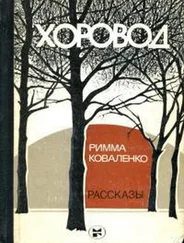В детском саду, когда мы гуляли во дворе, мне говорили:
— Беги, тебя у калитки тетка спрашивает.
Я бежала к калитке, с разбегу висла на Люде и смеялась от радости, что она пришла. Она приходила просто так, повидать меня. Вытаскивала из головы гребень, причесывала мои волосы, завязывала шнурок на ботинке и все глядела, глядела, склонив голову набок, будто ничего лучшего, чем я, на свете не видала.
Всю эту новую счастливую жизнь смял Игнат. Он явился, когда нас не было дома, снял у порога сапоги, растопил плиту и стал жарить рыбу. Был очень он пьян, бухнулся на кровать и уснул, а рыба сгорела до сажи. Когда мы с Людой открыли дверь, черные хлопья кружились по комнате, а Игнат храпел, и черные ступни его ног казались обгорелыми. Люда закричала. Игнат проснулся. И только после этого мы увидели, откуда вся эта чернота.
— Ах ты окаянный, — набросилась на него Люда, — это что же ты наделал? Что же это ты, окаянный, тут нажарил?
Игнат неверными ногами пошел к мешку, который лежал у двери. Достал рыбину, она взметнулась в его руке.
— Живая! — Игнат захохотал страшным смехом. — Людка, она живая!
Пошел в коридор. Мы стояли и слушали, как бьет струя из водопроводного крана. Я думала, он умывается, расхлюпывая вокруг воду, навлекая, как уже было не раз, гнев соседей. Но он не мылся. Открыл ногой дверь и внес наполненный до краев таз с водой. Пустил туда рыбину. Та вильнула хвостом и заплавала по кругу.
— Живая! — Игнат опустился на колени перед тазом.
Люда с ужасом глядела на плавающую рыбу и Игната.
— Уходи, — сказала она тихо, — уходи, Игнат. Наделал беды, покуражился, и хватит.
Но Игнат не слышал ее, стоял на коленях, глядел на рыбу и больше не хохотал, крупные слезы падали из его глаз в таз с водой.
— Простора ей нет, — плакал он, — помрет она в тазу, ей речка нужна, простор.
— Какой жалельщик, — съехидничала Люда, — по той, что сжег до сажи, надо слезы лить, а не по этой.
— Ей вода свежая нужна, — Игнат вытащил рыбину, положил на пол и понес таз в коридор менять воду.
Рыба то плавала в тазу, то лежала на полу, пока Игнат менял воду. Так было раз шесть. Никто из соседей не высунул носа, хотя в коридоре был уже потоп. Люда не выдержала. Когда Игнат в очередной раз принес таз и пустил в него рыбину, Люда нехорошо выругалась, схватила рыбину и с размаху ляснула ее об пол. Я подумала, что Игнат сейчас убьет за это Люду, и бросилась к ней. Но Игнат даже головы в нашу сторону не повернул, поднял таз и опять пошел менять воду.
— Собирайся, — сказала мне Люда, — с ума он тронулся. Уходить надо.
Когда мы, забрав с собой кое-что из вещей, подошли к двери и открыли ее, Игнат с полным тазом шагнул нам навстречу. Я оглянулась и увидела, как он поднял оглушенную ударом об пол рыбину и опустил ее в воду. Та поплыла.
Три дня мы жили на темной уличке в Людином доме. Дома тут стояли старые, черные, у многих уже окна вросли в землю. Деревьев не было на этой улице и трава не росла. Люда в сенях зажигала фонарь, широкое стекло которого было обтянуто проволочной сеткой, и несла его в комнату. От зыбкого света фонаря предметы в комнате колыхались, двоились, большая комната с земляным полом, лавками, столом, кроватью в углу казалась безбрежной. Я не могла представить себе, что в другие дни Люда здесь живет одна, и все ждала, что придут какие-нибудь люди.
— Что ты все прислушиваешься? Не придет он сюда, — сказала Люда, — он не знает, где я живу, так что ничего не бойся.
Она говорила об Игнате. Я не думала о нем, но после Людиных слов стала думать, ждать его и бояться.
Наверное, Наталья и Люда все прибрали и вычистили в квартире к приезду матери, потому что та никогда не хмурилась, вспоминая историю с рыбой. Наоборот, когда они собирались втроем, мать просила:
— Расскажи, Люда, как Игнат одну рыбу сжег, а вторую полюбил.
Люда рассказывала, я вставляла свое слово, и каждый раз мы тяжело, до слез смеялись.
О том, что моя мать выходит замуж, я узнала во дворе. Рыжая Лидка, возвращаясь из музыкальной школы, задержалась возле нас и сообщила: — А я что-то знаю.
Надеяться, что она вот так сразу выложит то, что знает, не приходилось. Мы знали Лидку: если она знает что-нибудь стоящее, то уж непременно помурыжит столько, сколько ей положено. И в этот раз она сначала отнесла домой свою красную нотную папку, вернулась к нам и стала тянуть жилы своей тайной.
— Я такое знаю, — она уставилась на меня, — что ты в обморок упадешь и не встанешь.
Я не знала, что такое «обморок», но Лидкин зловещий вид был лучше всякого объяснения.
Читать дальше