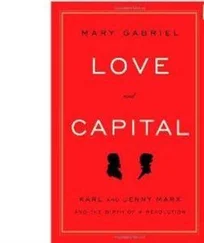Борис Степанович старался забыть о Емельяне Ивановиче. Но думал о нём постоянно. Да, кое-чем в жизни был он Емельяну обязан. Но ведь и сам пахал на него предостаточно. Да, судьба судила так, что, не соверши Парамонов своего антиспортивного, в сущности, фанфаронского, честь целой области принизившего поступка, не заменил бы его Борис Степанович в руководящем кресле. Впрочем, хотелось считать, что то не игра случая, а следствие логики жизни. Песчаный, несомненно, был создан для занимаемой ныне должности, назначение же на неё Парамонова — абсурд, нонсенс. Песчаный желал также забыть обиды, причинённые ему Парамоновым. Он желал если и помнить, то другое: он всегда чувствовал и предупреждал — вполне по-товарищески — прежнего незадачливого начальника, что авантюризм, беспочвенное прожектёрство, вспышкопускательство, вообще хождение по проволоке без лонжи и балансира, каким представлялся ему весь образ мыслей и существования Парамонова, неминуемо приведут к падению. Однажды это уже случилось, случится — несомненно — вторично. И окончательно.
«Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела…» Классическая русская литература даёт нам уроки житейской мудрости: стрекозиное легкомыслие отливается горькими слезами, а торжествуют скромные и нечестолюбивые муравьи.
Но странно: эти мысли не радовали Бориса Степановича. Наоборот, что-то в них его угнетало. Тоскливое беспокойство испытывал он даже в тех уголках своей квартиры, которые обычно были ему особенно милы: в кухне, где он собственноручно, с помощью Ильи и Никиты, получавших трудовое воспитание, соорудил и обил дерматином под кожу мягкий диванчик; в туалете, который Ирина, домашний дизайнер, пользуясь искусно смонтированными вырезками из плакатов, превратила в очаг пропаганды здорового отдыха и туризма. Песчаный вспоминал слухи которые передавала ему Ирина: слухи циркулировали в отделе труда и зарплаты. Принёс с собой Парамонов в закут, которым их с сожительницей осчастливил Залёткин, всего-то свои шутовские галстуки. Марго-де выцыганила из дедова наследства изрядную сумму, и, оставляя ей жилплощадь, Емельян полагал, что этим хотя бы частично от неё откупится. И она теперь смеётся над ним по всему городу. Однако за его видимым бескорыстием скрывалось, без сомнения, всё то же позёрство, фанфаронство. Всё та же безответственность. Только в данном случае по отношению к женщине, которая имела несчастье связать с ним жизнь.
Так размышлял Песчаный, внушая себе, что его личная нынешняя позиция со всех точек зрения единственно правильна и принципиальна. Конечно, мыслил он, Емельян достоин жалости, но как можно жалеть человека, постоянно стремившегося от своего прямого дела получать удовольствие и получавшего? Как? Коль удовольствие, то в чём тогда заслуга? В чём она, когда не проявлены ни воля, ни терпение? Нет, уважения заслуживает такой человек, которого хоть и ждут дома уют и тепло, ждут на секретере кляссер и лупа, и альбом, и пинцет, на лоснящихся маленьких квадратах, прямоугольниках, треугольниках — бегающие, прыгающие, метающие копья и ядра маленькие люди под сенью пальм, соборов, небоскрёбов, но человек говорит себе — «нельзя» и говорит себе — «нужно». А если другой всю жизнь говорит себе одно: «хочется»? И испытывает наслаждение где? — в фильтровальной, выясняя состав аммиачного, нитритного и нитратного азота в обыкновенной воде? Уважать ли его за это? Жалеть ли?..
Неосознанно — и совершенно нелогично — Борис Песчаный жалел себя.
Залёткину сделалось лучше, и лечащий врач разрешил посещения. Молодой кандидат медицинских наук вопреки догмам и канонам не запрещал — напротив, рекомендовал осторожно вводить пациента в курс комбинатских дел. Впрочем, только тех, которые вызовут положительные эмоции. Как было известно ещё древним, подобное излечивается подобным. Металлургия — жизнь Алексея Фёдоровича, она и только она способна помочь восстановлению нарушенных функций.
Впрочем, побывавший в больнице помощник директора Гаспарян сообщил затем в управление, что, когда он принялся описывать, как на комбинате всё великолепно ладится и как все ждут не дождутся возвращения Алексея Фёдоровича, тот шёпотом предложил не валять ваньку, но докладывать подробно по каждой позиции плана.
Навестил Залёткина и Парамонов. День был пасмурный, он как бы томился в нерешительности, то ли разродиться последним дождём, то ли первым снегом. Серыми казались белоснежные подушка и пододеяльник. И лицо Алексея Фёдоровича было безжизненно серым, и отчётливо проступали на опавших щеках ветвистые прожилки, клубки вен на висках. Похоже, Залёткин дремал. Выпуклый лоб выступал из подушки, и Емельян вдруг отчётливо представил, словно ощутил холод другого лба. Материнского, когда она лежала в гробу. Ничего живого не осталось в том холоде, ничего человеческого.
Читать дальше