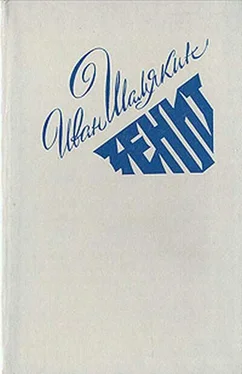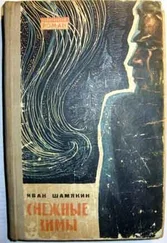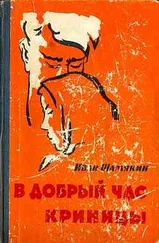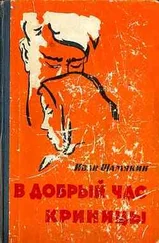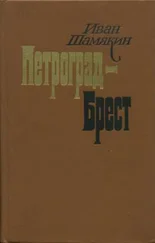И я странно заволновался. Сам удивился: почему? От радости, что сейчас, в антракте, встречусь с однополчанкой? Других-то чувств давно не было. В госпитале поныло сердце за ее судьбу — женщина без руки! Как будет жить? Были недолгие муки совести: мало ли что она отказывается, а я должен остаться верен долгу. Но скоро меня выписали в мой дивизион, а ее отослали на родину, и она даже ни разу не написала. Не хотела бередить душевные раны ни себе, ни мне. В мирном счастье вспоминал ее так же, как Колбенко, Кузаева, Глашу, Лику, Данилова… тех, с кем переписывался, и тех, о ком ничего не знал — где живут, как живут? В первые послевоенные годы мы не так активно искали друг друга, как теперь, в старости.
Валя, как сейсмограф, почувствовала мое волнение: «Что ты ерзаешь? Живот заболел?»
У меня в те годы нехорошо было с животом — после студенческо-аспирантской диеты.
«Там — Ванда».
«Где?»
«Вон, без руки».
Рассказывал я ей о девчатах, с которыми служил.
Валя разволновалась, кажется, сильнее меня. Это встревожило. Появилась мысль взять жену за руку, подняться и уйти из театра, не увидевшись с Вандой. Но какое это было бы малодушие! Ради чего? Ради спокойствия жены?
А чего ей волноваться? Из-за кого? Валя ревнивая. Но смешно же и дико ревновать к почти сорокалетней однорукой женщине.
В антракте остановились в проходе, пропуская толпу. Дождались Ванду. Поздоровались сдержанно, без эмоций, будто не встречались какой-то год, не больше. Одно разве что было необычным — Вандино признание:
«А я тебя увидела перед спектаклем, после третьего звонка. И плохо слушала оперу: думала, узнаешь ли меня, подойдешь ли?»
«Я тебя через сто лет узнаю».
«Ого!» — сказали в один голос и Ванда и жена моя.
Сидели в буфете, пили мы с Вандой чешское пиво, Валя — сок.
«Как ты живешь, Ванда?»
«Живу».
«Одна?»
«Иногда приезжает мама. Но в Архангельске у нее внуки, они притягивают сильнее».
«Где работаешь?»
«Окончила радиотехнический и работаю… название моего учреждения ничего тебе, историку, не скажет. Близко к моей военной специальности, только на высшем уровне, современном».
Ко мне Ванда не проявляла особого интереса — больше к Вале. Рассматривала ее так изучающе, словно выискивала недостатки. Валя даже смущалась.
«А ты эстет, Павел. Такую красивую жену выбрал».
С искренней заинтересованностью расспрашивала Валю о детях.
После спектакля, на прощание, дала телефон, рабочий, и адрес домашний. Записала наш. Спешила: живет на окраине, автобусы от метро в такое позднее время ходят редко.
В гостинице долго не мог уснуть. Не только потому, что думал про Ванду, прокручивал свою военную эпопею, но и потому, что чувствовал — Валя тоже не спит. Почему? Странно, почему мы не сдвинули свои кровати, как делали в предыдущие ночи? Валя легла раньше, пока я чистил зубы.
Наконец жена отозвалась:
«Павел, ты не спишь?»
«Засыпаю».
«Ничего ты не засыпаешь. Павел, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу».
«Странное ты условие ставишь. Я не знаю еще просьбы и вынужден давать слово. Может, на Библии поклясться? Нет их в наших гостиницах. В Финляндии…»
«Ты не будешь ей звонить!»
«Кому?»
«Ты уже неискренний. Ты хорошо знаешь кому».
«Ванде? Если ты не хочешь, не буду. Хотя не понимаю…»
«Если не понимаешь, спи». — И повернулась ко мне спиной.
Флюиды Валиной обиды я научился ловить, как локатор, за версту.
Включил ночник. Достал из кармана пиджака, висевшего на стуле у кровати, записную книжку.
«Странно, что ты не веришь мне. На, разорви телефон и адрес».
«За кого ты меня принимаешь?»
«Тогда я сам разорву».
«Делай как знаешь. Не мешай спать».
Я выдрал листок, измял, бросил в пепельницу.
Но странная вещь: плохо я запоминал числа, кроме исторических дат, а телефон Ванды врезался в память, как высеченный. И я нарушил слово, данное жене. Я позвонил Ванде в один из очередных приездов в Москву, не скоро, может, через год, не раньше.
Ванда обрадовалась.
«А я думала, ты зазнался. И на новогоднее поздравление не ответил».
Настойчиво приглашала в гости.
Поехал вечером к ней в Кунцево почти совсем спокойно. Не было того волнения, которое почему-то появилось в театре и испугало Валю; так ездил к Масловским, к Савченко, где любовался Ириной: моя жена красивая, а эта татарка неописуемая была в свои тридцать пять лет.
Пили маленькими стопочками дорогой коньяк, вспоминали… Все вспоминали — и веселое, и грустное. Ванда то смеялась, то печалилась до слез, раньше такой сентиментальности за ней не водилось.
Читать дальше