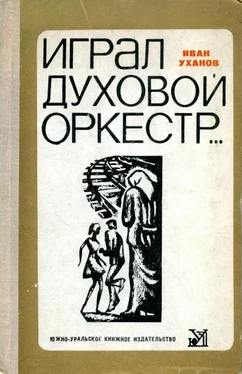Однажды пригласил Васю к себе. В кругу молодых поэтов, художников Вася почувствовал себя неустойчиво, как-то одиноко. Он затруднялся войти в их разговор и испытывал ту неловкость, какую ощущает незагорелый человек, оказавшись на многолюдном пляже. Пологов заметил это, но поначалу не очень старался облегчить положение Васи, упиваясь тайной гордостью тщеславия: вот, мол, Вася, смотри, среди каких зубастых эрудитов я толкаюсь. Соперничаю и многих побеждаю. Вот как я вырос! Но такие мысли быстро ушли. Пологов слишком хорошо знал цену всем этим спорам и встречам, знал, что выйдя за порог, его друзья-приятели заговорят о нем и о его работах несколько иначе, что по-братски обнимая его у порога, некоторые из них держат за пазухой камушки. И поэтому так радостно для него было присутствие старого друга среди этих в общем неплохих, но сложных людей, чьи искренность и доброта подчас так и не могли проглянуть сквозь сигаретный дым и словесную пыль споров. Пологов ласкал Васю взглядом, весь вечер собирался подойти к нему, обнять и сказать ему что-нибудь простое и глубокое, как их прошлая дружба. Но так и не выбрал случая. Он немножко пожалел об этом, лишь когда все разошлись и он остался один. Но ради сохранения в себе хорошего духа постарался тут же стряхнуть маленькую неловкость. И опять нашлось достойное оправдание: вечер прошел недурно, хорошо посидели, Вася тоже остался доволен. Что еще надо?
…Сверху из приоткрытого окна однообразным мутным потоком лилась на Пологова бубнящая речь старухи.
Голос звучал не по-женски густо, назидательно, пророчески:
— …И все исчезает от гнева твоего, ибо ты сказал — и сделалось, ты повелел — и явилось. Все пришло из праха и ушло в прах… И нет ничего лучшего, как наслаждаться человеку делами своими; они — доля его, ибо кто приведет его воззреть на то, что будет после него?..
«Никто не приведет. Только дела наши. Да, да», — поддержал старуху Пологов, невольно и неожиданно встретив в ее бормотании какую-то высокую истину.
— Так, воздай ему, господи, по правде его…
«Да, да, воздай», — машинально поддакнул и как бы попросил Пологов, находя в словах старухи созвучие своему постоянному желанию солидарничать со всеми, кто намерен оказать какую-либо почесть Васе Овчарову. Старуха продолжала читать, втягивая Пологова в пустоту каких-то вялых, туповато-покорных мыслей.
Вдруг он резко встал, выдернул из кармана сигареты.
«Что со мной? Мистика какая-то…» — Ему показалось, что заботу о памяти друга он норовит передать в чужие руки.
Пологов подсел к мужикам, что курили на скамейке у плетня и тихонько рассуждали о жить-бытье.
— Високосный-то, он однобок. Если урожаем порадует, зато на людей навалится. Скоко за нонешний год померло народу…
Кто-то рассказал о богомольной старушенции Иванчихе, которой уже при жизни невесть откуда стало известно, что ей заказано место в раю. На тот свет она собиралась как к переселению в новую избу. Даже домашнюю утварь и скотинку приготовила.
— Дело известное: пусти бабу в рай, она и корову за собой потянет.
— А вот Николай Уторин не думал, не гадал, вмиг кончился. Пришел утром в конторку, сел путевки подписать, да и клюнулся в стол. Готов… Сердце, говорят…
— Какое те сердце! Ему и сорока не было… От давления он. — Уточнил черноглазый, похожий на цыгана парень, шофер местной автоколонны, видимо, Васин товарищ по работе.
— Ну а давление-то, по-твоему что? Это и есть сердце…
— Раньше по сто годов жили и не знали, что такое давление, — заговорил остроносый старичок, что сидел на дальнем конце скамейки. — А теперича чуть чего и сразу — «Невры! Давление!» Давят друг на друга люди-то, вот и давление получается.
— Ночь во сне, день во зле, — будто проснувшись, надтреснутым жидким баском забормотал дед Самсон. — Оно спокон веку, Наумыч, так и шло, как свет стоит, исстари…
— А у вас, дедушка, какое давление? — прервал его черноглазый, с лукавинкой подмигнув Пологову.
— А бог ее знает, сынок… Людей я не трогал и они меня не задевали, — просто ответил Самсон.
— Интересно. — Парень в раздумье покачал курчавой головой. — Интересно, как это вам удавалось? Тут недели не проживешь, чтоб с кем-то не поцапаться. Не только за себя. Иной раз дело горит, а кому-то это до лампочки. Как же тут не тронешь?..
— Не знаю, не ведомо мне, — буркнул дед Самсон.
— А вот Василек слишком простецкий, душа нагишом, — с укоризной сказал Наумыч.
— Разве плохо? — заговорил черноглазый, похожий на цыгана парень, шофер местной автоколонны. — У Василия Григорьевича под началом было нас две сотни шоферюг. И у каждого свой интерес, каприз. К каждому гладко подкатись, ублажь. А ведь на нас и солнце не угодит. Василий Григорьевич молодой, но дисциплину в автоколонне держал. Если выпьет кто, сорвет рейс, он это как свой конфуз переживал. Но не крикнет, не матюкнет. А у самого красные пятна по лицу… Он нам на совесть нажимал. И его понимали…
Читать дальше