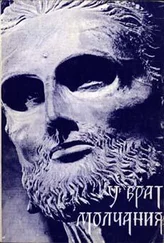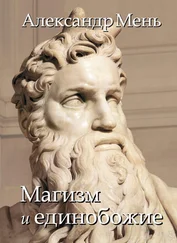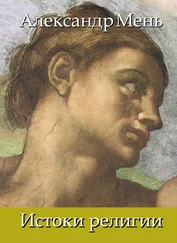Теперь дорога шла через лес. Это было царство лиственницы. Оранжевый прозрачный лес праздновал свое умирание. Он сиял и осыпался, хвоя плыла в воздухе, устилала землю. Ветер, падавший с горы, здесь терял свою скорость; он тихо ворчал у реки, крался на мягких лапах сквозь чащу, глухо покачивал пиками лиственниц.
Красильников заметил впереди красный холм и направился к нему. Холм вздымался шапкой пламени среди светлой желтизны леса. Склоны его были усеяны кустиками голубики, они-то и создавали окраску. Продолговатые синие ягоды, похожие на большие капли, густо висели под малиновыми листьями. Стоило наклонить кустик или схватить его в охапку, как красный блеск потухал, вспыхивали голубые полосы и пятна. Красильников бросил наземь котелок и чайник и сказал Лахутину:
— Я остаюсь здесь, Павел Константинович. Разведу костер, соберу ягод, буду тебя ждать.
— Ладно, жди. К вечеру подойду. Чего-нибудь подстрелю на бережку Рыбной.
Лахутин ушел дальше, а Красильников стал собирать валежник. Его было так много, что после часа работы можно было составить пять костров. Не зажигая огня, Красильников принялся за ягоды. Сперва он переползал с места на место, потом только поворачивался: ягода была везде, она сама лезла в руки. Красильников ел ее и складывал в газету. Собрав с полведра, он подтащил газету с ягодой к кучке валежника и улегся отдыхать. Он лежал на спине, перед ним светился оранжевый лес, по бокам расстилалась кроваво-красная земля, а над землей и лесом беззвучно кипело небо. Он вглядывался в небо и удивлялся тому, как разнообразен темный цвет. Ни один не был так богат оттенками, как этот: он то серел, то густел, свет боролся в нем с ночью, свинец — с графитом. Небо ежесекундно менялось, разгоралось и погасало, его рвала какая-то своя буря; безмолвие этой бури отчеркивалось настороженной тишиною триумфально убранных деревьев, красной одеждой земли. Красильников закрыл глаза, и тотчас на веках вспыхнули синие капли голубики. Удивленный, он привстал и осмотрелся. Все было так, как сразу привиделось: на красной земле тонко светили лиственницы, вверху неистовствовало небо. Он опять зажмурился, и опять перед ним зажглись гроздья голубики. Для забавы он несколько раз открывал и закрывал глаза, отпечатки голубики возникали мгновенно, только образ одной грозди сменялся образом другой, словно сам он еще ползал по земле от кустика к кустику, напряженно всматриваясь, где тут ягода.
Темное утро подползло к темному полудню. Светлее не стало, но стало совсем тихо. Лес вслушивался в себя, вздрагивая от каждого звука со стороны: изредка с горы валились камни. Красильников задумался над своей странной жизнью. Она была запутана, как это непонятное небо, ее тоже трясли безмолвные бури. Он любил выспренние сравнения и хотел развить параллель между жизнью и осенним небом. Однако небо было далеко, а жизнь с ним, нужно было как-то ее утрясти, чтоб стало хоть немного удобней существовать, — никакие сравнения не подходили. Красильников тихо вздохнул и стал вспоминать события последних двух недель.
Все неприятности начались с его дурацкой докладной записки, теперь это несомненно. Вначале вопрос казался чисто научным: из опытов с маленькой печью выходило, что обжиг можно вести интенсивней, стоит лишь побыстрее перемешивать порошок и не жалеть угля в топке. В лаборатории все легко увязывалось, а вот на большой печи концы не сошлись с концами. Заводская печь вела себя по-иному, выведенные в комнатных печурках закономерности для нее не годились, она жила по собственным законам. Тут он ошибся. Он должен это с сожалением признать. Он это признает. Прискорбный, но не такой уж редкий научный просчет — вот как надо оценить его докладную записку. На этом следовало бы поставить точку.
На этом нельзя ставить точки. Техническая проблема нелепо перемешалась с личными отношениями. Пинегин уверовал, что Красильников круто поднимет выдачу огарка, но ни Прохоров, ни рабочие, хорошо знающие обжиговый цех, не допускали и мысли, что в нем можно совершать перевороты. Как же они могли оценить его поступок, если сомневались в его технической обоснованности? Только так: дело не в технике, а в дрязгах. Логично ли это? Да, очень логично, возражать нечего. Он не сомневался, что после первых дней работы все уверуют в его правоту. На чем держались это странное обольщение? На том, что он прав в своих расчетах. Но он не улучшил работу печей, может, немного выправил ее. Он ничего не может опровергнуть, никого не способен убедить. Остается одно — отступать. Он разбит. Надо очистить поле сражения.
Читать дальше