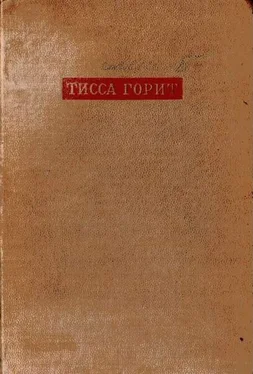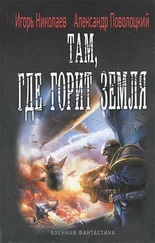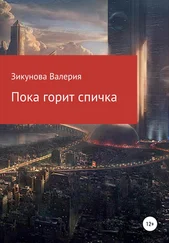— Пожалуй, и в девятнадцатом году дело обстояло далеко не так, как об этом говорят, — заметил Петр.
— А что делает Старик?
— Вместо лозунга — «врастаем в социализм» сейчас в Австрии в ходу лозунг «врастаем в монархию». Этот лозунг, пожалуй, реальнее прежнего.
— Любопытно, — буркнул Петр. — Но, признаться, меня куда больше интересует знать, что творится в венгерской компартии. У нас ходят слухи, что существуют внутренние разногласия…
— Об этом вам расскажет Старик, — оборвал его Коша. — О российских делах знаете?
— Мало, очень мало! И то, что знаю, не совсем понимаю. Вернее, если говорить по правде, совершенно не понимаю. Наши товарищи очень нервничают…
— Нервничают! Да они просто сумасшедшие! А дело ясное. Что там до сих пор происходило — было, в сущности, военным коммунизмом. Это и понятно. Гражданская война окончена, военный коммунизм больше не нужен. Это тоже понятно. После этого, конечно, можно и нужно было ожидать, что и Коминтерн свою тактику изменит. Я, конечно, далек от мысли оправдывать Леви [39] Пауль Леви — один из вождей Германской компартии 1920–1921 годов, после неудачного восстания рабочих в Средней Германии в марте 1921 г. стал предателем. Он обвинял Коминтерн в организации этого восстания и поднял против компартии клеветническую кампанию. Был исключен из компартии. Исключение было санкционировано III конгрессом Коминтерна. После исключения он вступил в с.-д. партию. В 1930 году покончил самоубийством.
, — это, знаете ли, тот самый немец, который резко напал на русских товарищей за их «вмешательство» в немецкие дела. Его исключили из партии. Я считаю это вполне правильным. Но, знаете ли, нельзя не задумываться над фактом, что целый ряд немецких коммунистов, настоящих и бывших, нападает на русских, принужден нападать на то, что в сущности является делом не русских, а их европейских посланцев. А тот, кто берет пример с русских и формы движения рабочего класса России, едва еще оторвавшегося от крестьянства, думает пересадить без изменения на европейскую почву, перенести методы русского рабочего движения в Европу, которая, несмотря на все свое загнивание, все же остается насквозь культурной, — тот, дорогой мой, и есть авантюрист. Это — Бела Кун и иже с ним. Н-да… Знаете ли, мы долго молчали, но — довольно! Мы должны сказать… Мы наконец должны крикнуть: Европа вам не Туркестан! Нет! Европа — это Европа!
Коша закурил папиросу и с минуту помолчал. Его испитое, бледное лицо ожило.
— Одним словом… — начал он снова. Взгляд его упал на Петра, и он сразу смолк.
Петр сидел молча, закусив губы, и только порывистое дыхание выдавало его волнение.
— Получите! — крикнул Коша.
— Почему не кончаете, товарищ, раз уже начали?
— Нам надо спешить. Шмидты, у которых вы будете ночевать, могут лечь спать.
— Я хотел бы…
Петр так и не договорил, что он, собственно, хотел. Но когда Коша расплатился, все-таки спросил его;
— Вы, значит, товарищ, считаете исключение Леви правильным? Вот это отлично! Но тогда мне непонятно: если вы против Леви, то как же можете пропагандировать его идеи?
— Что вы, что вы! Ничего подобного. Я говорил об общем положении, не делал никакого определенного вывода. Я только ввел вас в курс тех вопросов, вокруг которых теперь начинается дискуссия. Вот и все. Большего я уже по одному тому не мог бы сказать, что сам не совсем в курсе дел.
— Так, так… — задумчиво протянул Пётр.
В трамвае по дороге в Гринцинг оба молчали.
Ночевать Петр должен был у Шмидтов, которые жили в тихом переулке в одноэтажном домике. Они занимали комнату с кухней.
Шмидт был безработный. Жена его подрабатывала шитьем. Швейная машина стояла в кухне на подоконнике.
Как только Коша ушел, жена Шмидта, маленькая полная блондинка с голубыми глазами, проводила Петра в комнату, где он должен был спать.
— Вот, товарищ, ваша постель, а на той кровати спит другой товарищ. Он возвращается поздно ночью.
— Что, товарищ, очень устали? Или желаете немного поговорить? — сказал Шмидт, входя в комнату со свернутой картой в руках.
Шмидт всего год как вернулся из Италии, где он провел почти четыре года в военном плену.
— Люди едут в Италию, чтобы лечиться от туберкулеза, а я свой туберкулез вывез как раз оттуда, — говорил он обычно, смущенно улыбаясь.
Эта смущенная, как бы извиняющаяся улыбка навсегда залегла вокруг его губ с тех пор, как на него свалились две беды: болезнь и безработица. Дети, — одному было три года, другому полтора, — когда их отец ушел защищать отечество, оба ребенка умерли почти одновременно. В ноябре девятьсот семнадцатого года.
Читать дальше