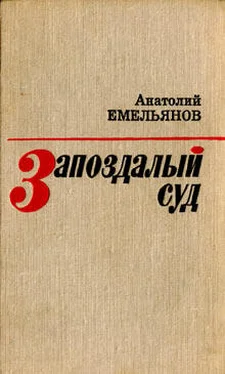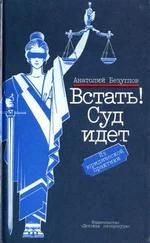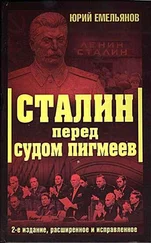Улица кончилась. Федот Иванович идет дальше, идет й поля.
В поле он всегда чувствовал себя спокойней и уверенней. Один запах земли был для него лучшим успокоительным лекарством. Вместе с этим, слаще меда, запахом в его грудь вливалась сила и бодрость, а в голове рождались большие и светлые мысли. Мысли не о собственном житейском благополучии, а о благополучии многих людей. Мысли, связанные и с этими полями и лугами, и с родным Хурабыром. Но сейчас и поля не принесли его сердцу успокоения.
— Прославился! — тихо пробормотал он, скрипя зубами от обиды.
За пятнадцать лет каторжной председательской работы получил один орден, так теперь, выходит, и им попрекают. Будто тот орден он просил! Слава богу, у него три фронтовых имеется, так что будет чего выносить на подушках перед гробом… Рано об этом говорить? Нет, дорогой Валентин Сергеевич, не рано. Назови-ка хоть одного председателя, который бы отдавал всю душу своей работе и умер по старости. Они сгорают. Сгорают, как высокие деревья, в которые ударяет молния. Вон Сергей Ксенофонтович — возвращался с поля, переступил порог своего дома, упал и больше не встал. Так же неожиданно закрылись глаза и у Юхтанова. А обоих их ругали за строгость, за крутой характер. Но попробуй подыми колхоз без строгости. А Коротков Сергей Ксенофонтович не только поднял, но и вывел в передовые. О колхозе в Кольцовке знала вся страна, туда ездили и иностранцы… В прошлом году довелось побывать в Кольцовке и ему. И что он видел, что слышал? Он видел бронзовый бюст председателя весь в цветах, он слышал, с каким уважением о нем вспоминают. Почитают, как отца родного, хоть и был он и строг и требователен…
«Не ради славы…» А сам-то Валентин Сергеевич небось славы не гнушался. Колхоз-то, куда его послали, поднял разве не для того, чтобы заставить о себе говорить, чтобы прославиться? И как знать, без колхозной славы да без Звезды Героя, избрали бы его секретарем райкома или нет?.. Сейчас в райкоме все стали шибко грамотными; один партийную школу окончил, другой в академии учится… И бумаги составляют без единой ошибки, и выступают так, что заслушаешься. Но он-то сам побывал в шкуре председателя и должен же знать, что даже самыми умными бумагами и речами колхоз из бедного не сделаешь богатым. А если знаешь цену всяким бумагам — зачем же председательскую работу начал сверять не с жизнью, не с богатством колхоза, а с пунктами и параграфами? Разве дело в пунктах, а не в том, чтобы председатель имел голову — голову, а но кочап капусты! — на плечах?.. Нет, не прав ты, Валентин, сын Сергеев…
Небо на востоке все больше светлеет, хотя здесь на земле, в полях Bice еще властвует ночная мгла. Неровная, изрытая гусеницами тракторов, дорога по-прежнему плохо видна, и Федот Иванович часто спотыкается. Неровно, словно бы постоянно спотыкаясь, идут и его мысли. Он не хочет вспоминать о собрании — эти воспоминания и так изнурили, обессилили его — он хочет думать о чем-то другом. Но легко взять да и перейти с дороги на полевую тропку, а как перейдешь с одного на другое в мыслях, если они опять и опять возвращаются к своему истоку.
«Если председатель пройдет мимо критики коммунистов и не сделает из нее соответствующих выводов, то он сам же себя может поставить на грань исключения из партии…» Вот уж спасибо! Вот уж отблагодарили! Будто он вступил в партию, чтобы ухватить портфель поболе да заиметь пост повыше, как это некоторые делают. Он вступил в партию в самом тяжелом сорок первом году, когда люди умирали, а потом у них в гимнастерках находили листки бумаги со словами: «Прошу считать меня коммунистом». Он тоже с таким листком бывал не в одном бою, прежде чем выпало на фронте затишье и его приняли в партию. Слова, которые на тех листках писались, были не пустыми словами. Они были написаны кровью… И как он, секретарь, осмеливается говорить такое перед коммунистами колхоза? И уж если на то пошло, не он принимал — не ему исключать. Да и не на нем весь свет клином сходится, есть обком, есть ЦК. Если они с отставным майором ничего не поняли, поймут там, наверху…
С лугов от Суры вроде бы тянет прохладный ветерок, а на лбу пот выступает… Горит душа у Федота Ивановича, и этот внутренний жар никаким ветром не погасишь. Во рту по-прежнему сухо и горько. Под левым глазом вдруг забилась какая-то жилка, он потер ожившее место пальцем, но жилка продолжала подергиваться, биться, словно это билась его сердечная боль, пытаясь найти выход наружу.
Читать дальше