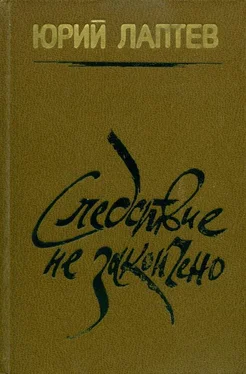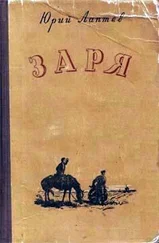Так оно и получилось.
Уже через неделю после свадьбы между новобрачными произошла первая размолвка: Леопольд обиделся на молодую жену за то, что она без его ведома ушла со своей матерью на дневной спектакль «Виндзорские проказницы».
Затем возникла ссора серьезнее: Леопольд приревновал свою Нинель к соседу по подъезду — студенту консерватории Вене Зискинду и пригрозил щуплому одаренному юноше, что «выкинет его в окно вместе с его горластой скрипочкой», хотя Веня играл на виолончели.
В результате этой нелепой ссоры Нинель удалилась в комнату матери и вернулась к мужу только через два дня, лишь после того, как Леопольд, «содрогаясь от ущемленного самолюбия, попросил у Вени Зискинда прощения».
А еще через неделю Леопольд избил свою избалованную всеобщим вниманием подругу жизни.
Жестоко избил, до синяков.
Скандал начался опять со сцены ревности, на этот раз нелепой до смешного. И несмотря на то что ревнивец почти сразу же почувствовал, что играет в этой сцене роль напыщенно-придурковатую, сдержаться он не сумел. И даже наоборот — разозлился еще больше.
«Ты сейчас удивительно похож на нашего дворника, когда Кузьма напьется и начнет поносить последними словами международную буржуазию!»
Леопольд не размахиваясь ударил Нинель по щеке.
Затем, будучи не в силах перенести взгляда девушки, схватил ее за волосы, пригнул, ударил кулаком по тоненькой лопатке…
Потом бил потому, что хотел во что бы то ни стало сломить безмолвное сопротивление жены, ждал крика, мольбы, слез хотя бы…
И, не дождавшись, закричал сам в ужасе и отчаянии:
«Я вас обеих с матерью изувечу! Шелковые будете — потаскухи!»
Страшными показались Леопольду первые после побоища минуты; его состояние можно было сравнить с состоянием человека, ожидающего оглашения неумолимо сурового приговора.
И приговор прозвучал.
«Во всем, что сейчас произошло, — заговорила Нинель каким-то угнетающе безразличным голосом, — виновата я. И только я! Мамочка была права, ну, конечно, Ястребков, у нас с вами нет ничего общего. Мы настолько разные люди, что я даже не могу сердиться на вас… Нет, нет, вы не так меня поняли, Ястребков, вам просто надо забыть про то, что на свете существует некая Нинель Ландышева. Меня в вашей жизни не было, нет и никогда не будет. Никогда! Ни-ког-да!»
Леопольд собрал свои вещички и ушел.
Но забыть про то, что на свете существует беспомощно-нежная и в то же время упрямая девушка, которую зовут Нинель Ландышева, — это оказалось не в его власти.
Больше того — Ястребков не только с каждым днем, а с каждым часом ощущал все неотвратимее, что он буквально своими собственными руками — руками грубыми и сильными — смял то, что люди называют счастьем, и что отныне жизнь его превратилась в пустое, никчемное существование; ходит человек по земле, ест, пьет, разговаривает, а кому это надо?
Короче говоря, уже на третий день к вечеру Леопольд направился по знакомой дорожке и битых три часа простоял на углу у газетного киоска со все возрастающим нетерпением, чего-то ожидая, хотя и понимал тщетность своего ожидания.
«Меня в вашей жизни не было, нет и никогда не будет!»
Чего уж тут ждать!
Однако на следующий день Леопольд снова пришел. И снова аж до темноты продежурил на углу, под моросящим осенним дождем. Промок, конечно, продрог — даже самого себя стало жалко.
На третий день приходил, и на четвертый… и на седьмой.
И лишь на восьмой день наш горемыка Леопольд пришел, глянул и не поверил собственным глазам: на знакомом окошке к кисейной занавеске был приколот заветный платочек — ярко-оранжевый с синей каймой. «Как будто солнечный лучик чудом прорвался сквозь плотные тучи и осветил окно любимой девушки!»
После того как закончилось на этой фразе чтение рассказа, очень долго длилось молчание. Может быть, и не так уж долго, но мне пауза показалась неимоверно затянувшейся. И я, да и все ребята выжидающе смотрели на Горького. Но Алексей Максимович, видимо, не торопился высказать свое суждение. Сидел, склонив голову, как бы к чему-то прислушиваясь, осторожно крутил длинными узловатыми в суставах пальцами папироску, иногда сухо покашливал. Потом поднял на меня неожиданно посвежевшие от какой-то веселой мысли глаза.
— Простила, значит, Нинель Леопольда?
— Да!
— Это хорошо. Ну, а мамаша как — Ксения Николаевна?
— Не знаю, — признался я чистосердечно.
— Вот тебе и раз! — удивился Алексей Максимович. — Как же вы не поинтересовались.
Читать дальше