— Ай не узнал? — удивился стрелец. — Арсений я. Ты еще меня с отцом Аввакумом в студеные края отправил как-то. Запамятовал?.. А я вот помню. Кажный день, почитай, тебя поминал, кажный день, как богу душу отдавал, с тобой по-матерному толковал. — Стрелец говорил посмеиваясь, ласково, но голос у него был нехороший. Ехидный голос. — Вспоминал тебя, когда корье жрал, когда на Байкал-море тонул, когда, иззябший, в сугробах валялся, по трое ден не емши, когда за манну небесную дохлую волчатину признавал. Ох, как сладко я тебя поминал! — Арсений крепко зажмурился, покачал медленно головой.
— А распопишка? — усмехнувшись, полюбопытствовал Никон.
— Аввакум-то? — стрелец открыл глаза и даже замер, восхищенный. — У-у-ух! — выдохнул он с восторгом. — Как ты еще жив остался после его поминок?! Куды мне с ним тягаться! И нонешним годом, когда его расстригли да в колодники определили, славно тебя благословлял. Носатый, грит, пузатый еретик, вор, блуднин сын, собака поганая, триехидна латинская… — радостно выкрикивал стрелец в лицо патриарху.
— Вижу, хорошо запомнил, — Никон поморщился. — Ну, помни меня и впредь! — Он наотмашь, с силой ударил Арсения в зубы.
Стрелец выронил бердыш, отлетел к стене, но тут же присел, изготовился к прыжку.
Никон, не глядя на него, прошел в сени. За ним, не поднимая голов, скорбными тенями скользнула монастырская братия. Арсений замычал, выплюнул в снег зуб и, взвыв, сдернул шапку, уткнулся в нее лицом.
А патриарх, пока шел узкими тесными лестницами, пока входил в свою душную келью, пока размашисто клал кресты перед черным ликом нерукотворного Спаса да отбивал поклоны, и потом, сев к столу, наблюдал, не видя, как суетится Феодосий, накрывая на стол, все думал об этом стрельце, и не о нем даже, а о бесноватом протопопе Аввакуме, которого вызвал в памяти стрелец. Когда же это было? Да, тринадцать годов назад. Время-то, время-то как летит…
…Утро никитиного дня, дня своего святого, патриарх встретил с тяжелой головой. Посидел недолго на краю постели, тупо рассматривая пол. Ничего не вспомнил. Подошел, шлепая босыми ногами, к столику и, не отрываясь, гулко, как лошадь, выпил огромный, заготовленный еще с вечера, жбан рассолу. Отдернул занавеску с киота. «Греха боится, блудница, образа закрыла», — подумалось вяло. Никон покосился на постель.
Агафья, разметав по подушке волосы, разрумянившаяся, тихо посапывала. Ее красные подкарминенные губы улыбались снам. Женщина почувствовала взгляд патриарха, поморщилась. Зашевелилась, пошарила рядом пухлой белой рукой, сонно приоткрыла блеснувшие ласковой синью глаза.
— Ты чего, золотой, сладкий мой? — она приоткрыла в улыбке белые крепкие, один к одному зубы. — Чего встал? Аль поздно уже?
— Пора мне. — Никон расчесывал бороду роговым гребнем, каждый раз поднимая его к глазам и разглядывая на просвет. — Слышь, благовестят.
Москва готовилась к крестному ходу в Басманную слободу в церковь Святого великомученика Никиты. В воздухе висело заливчатое треньканье малых колоколов, ровно стонали те, что поболее, сладкими тугими вздохами плыло буханье Ивана Великого и собора Успения.
— Ах, как лепо, — вздохнула Агафья и потянулась, — благостно как… Возьми меня с собой.
— Не богохульствуй, — Никон зевнул, — знай свое место. — Посмотрел на сытые круглые плечи женщины, потеплел взглядом: — Закройся, срамница. Ишь, растелешилась…
Подошел к ней, намотал на руку шелковистые, льняного цвета волосы, дернул небольно.
— У, бесстыжая, прикрой хоть голову-то. Опростоволосилась, обрадовалась!
Агафья выгнулась, схватила руку патриарха, прижалась к ней щекой. Никон, как кошку, пощекотал женщину за ухом.
— Ну, понежься еще. Келарь потом выведет тебя. А я пойду на врага своего Аввакумку посмотрю.
— Протопопа привезли? — Агафья вскочила на колени. — Врешь!
— У меня в темной сидит. — Никон чесал грудь и размышлял: звать ли сюда служку или самому одеться?
— Покажи! — властно потребовала женщина, и глаза ее, васильковые, любящие, стали темными, почти черными. — Покажи мне этого аспида. Хочу его в сраме видеть!
— Баба-а, — протянул Никон. — Плетей захотела?
— Покажи! — Агафья принялась колотить кулаком по подушке. — Он меня срамил, батогами бил на своем подворье, дьяволовой усладой, сукой, блудницей вавилонской кричал.
— Цыц! — Никон замахнулся на нее. — На чепь хочешь, в железо?!
Агафья упала лицом в подушку, заголосила навскрик.
— Ишь, Иродиада, — с удивлением посмотрел на нее патриарх. — Головы на блюде захотела, ай? Ласковая, ласковая, а гляди каким зверем взвыла. У-у, бесовское племя. — Он хотел сплюнуть, но опомнился, испуганно взглянул на образа и торопливо перекрестился.
Читать дальше
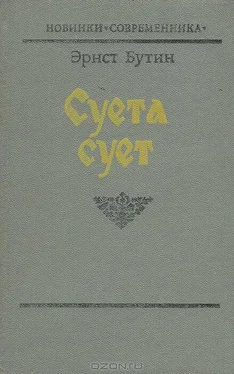

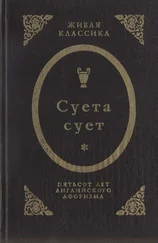






![Эрнст Бутин - Золотой огонь Югры [Повесть]](/books/417818/ernst-butin-zolotoj-ogon-yugry-povest-thumb.webp)
