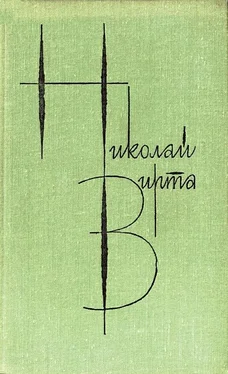— Сколько дней вы пробыли в контрразведке?
— С шестнадцатого по двадцать пятое сентября.
— Десять дней. Надо думать, вы не тотчас начали обрабатывать Вартмана?
— Я уже говорила; сначала присматривалась к нему. Кое-что в его поведении навело меня на раздумья… Мне показалось, что его можно, как вы сказали, обработать.
— Что же необычное бросилось вам в глаза в его поведении?
— Например, разница в обращении со мной при высоком начальстве и когда мы оставались наедине с Вартманом или втроем, то есть с его шефом, начальником контрразведки. При начальстве они орали на меня или выгоняли прочь. В остальное время я не могла пожаловаться ни на что. Разумеется, я была арестантка, но сидела не в тюрьме, а в доме, занимаемом контрразведкой. Выходить из дома мне было запрещено. Немцы вообще зорко следили за мной.
— Ну, разницу в обращении с вами можно объяснить просто. Перед начальством Вартман выслуживался, а оставшись с вами наедине, делал все возможное, чтобы показаться перед вами в наиболее выгодном свете и, так сказать, помочь вам дать согласие работать на немцев. Правильно?
— Да. Вартман и его начальник старались перещеголять друг друга в смысле внимания и предупредительности ко мне.
— Какое впечатление производили на вас контрразведчики?
— Они были большими знатоками своего дела.
— Очевидно, иначе и не могло быть. Вряд ли гитлеровское командование доверило бы идиотам такие дела, да еще в Польше.
— Я думаю.
— Не мне говорить вам, что мы имели дело с очень серьезным противником…
— Знаю это на собственном опыте.
— Тем более. Значит, у этих контрразведчиков хватило ума, сообразительности и проницательности увидеть в вашем лице человека достаточно умного, чтобы попытаться сделать вас своим сотрудником. Осведомители глупые и несообразительные им были не нужны. И вот между двумя немецкими контрразведчиками и русской женщиной-разведчицей идет психологическое сражение: кто — кого. Это сражение продолжалось десять дней. Окончилось оно вашей победой над одним из наших врагов. Вот так обстояло вкратце дело, о чем вы почему-то умолчали, беседуя с артистами театра.
— Я не хотела этого рассказывать моим слушателям, чтобы не создалось впечатления, будто я… ну, скажем, преувеличиваю некоторые свои качества. Поймите меня… Таких, как я, в тылу работали сотни…
— Однако одержать победу над таким сильным противником, как Вартман, смогли бы далеко не все. И тут роль сыграли именно ваши личные качества. Но вернемся к Вартману. Итак, ему и его шефу был нужен осведомитель умный, расторопный, хорошо знающий свое дело, располагавший к тому же сведениями о постановке разведывательного дела в нашей стране, что было для них очень важно. Вот почему они довольно мягко обходились со своей пленницей, понимая, что ею стоит заняться всерьез.
— Должно быть. Несколько раз шеф и Вартман говорили, что их потрясает мое самообладание и то, что я разговариваю с ними, ничего не боясь, хотя они не раз повторяли, что мне грозит петля.
— Что ж, вполне закономерная реакция. Итак, мы пришли к выводу, что в вас они видели человека, не только ни в чем им не уступающего, — в смысле общей культуры, например.
— Не мне судить о том.
— Вы только подумайте: два матерых гитлеровца, какими бы целями насчет вас они ни задавались, должны были выслушивать самые суровые и гневные слова осуждения фашизма. И от кого? От беззащитной девушки, не скрывавшей ненависти к ним.
— Я не считала себя беззащитной, — быстро сказала Елизавета Яковлевна.
— Да, понимаю. Вашей защитной броней была идея.
— Да, она.
— Вот тут-то мы и подходим к тому главному, что меня заставило вести весь этот «допрос».
Мы посмеялись.
— Это главное состоит в том, что я отвергаю ваше утверждение, будто с Вартманом дело обстояло так просто и обыденно. Сколько Вартману было лет и как он выглядел?
— Вероятно, что-то за сорок пять. Я не справлялась. А выглядел он обычно. Человек как человек. Приземистый, с небольшой лысиной, серые глаза.
— Он был нацист?
— Да, он был членом гитлеровской партии. Награжден Железным крестом. Не помню, то ли первой, то ли второй степени.
— За свои дела на Украине и в Белоруссии, вероятно?
— Он не любил об этом говорить. Но я слышала, что он зверствовал там вовсю.
— Таким образом, мы имели дело с человеком, до конца убежденным в правильности человеконенавистнической политики Гитлера. И вы всерьез думаете, что в сентябре тысяча девятьсот сорок четвертого года он действительно предвидел крах гитлеровской Германии?
Читать дальше