— Надеюсь, наше решение будет учтено на бюро? — спросил Косихин.
— Думаю, да, — кивнул первый.
Но думал Воронихин, возвращаясь в райком, совсем другое: «Нет, все, Паша. Отправлю тебя на пенсию Хватит. Для тебя же самого лучше будет».
После собрания, придя домой, Савватеев почувствовал, что ему худо. Его и раньше донимала головная боль, но в этот вечер она была какой-то иной, давила тупо и безжалостно, как горячий железный обруч. Едва уснул. И в душной, непроницаемой темноте кошмара, словно наяву, увидел, что рушится землянка. От взрыва приподняло накат, несколько мгновений он как-бы повисел в воздухе, а потом вместе с землей, с бревнами рухнул вниз. Придавил.
Барахтаясь, Савватеев кричал и звал на помощь.
После памятного собрания, после неожиданной и серьезной болезни Савватеева в редакции стало тихо, сосредоточенно, почти не раздавался смех и прекратились веселые сборы у Косихина в кабинете. Травников отсиживался за своим столом, зарывшись в бумаги, разговаривал только в необходимых случаях.
Он уже начинал каяться, что сделал неосторожный шаг и связался с Рябушкиным, но и не терял надежды, выжидал — чем же кончится? Рябушкин, наоборот, был спокоен, внешне, по крайней мере, нисколько не изменился и каждое утро, как будто ничего не случилось, начинал с обычного:
— А знаешь, Андрюша, вчера мне роскошный анекдот рассказали…
Андрей сейчас ненавидел его, не разговаривал с ним и еще поражался: как можно быть спокойным после случившегося? «Ему хоть плюй в глаза, а он все — божья роса», — вспоминалась любимая в таких случаях поговорка тети Паши.
Рябушкин, конечно же, его отношение к себе заметил и вскоре завел разговор:
— Андрюша, ты со мной даже разговаривать не желаешь? Так? Согласно последним выводам я в твоих глазах человек дрянной, почти подонок, и средства у меня тоже грязные. Можно не отвечать, я знаю. Но те, Андрюша, против кого мои методы направлены, еще мельче и грязнее меня Они говорят одно, а делают другое. С трибуны лозунги кричат, а сойдя с нее, воруют государственные деньги Подожди, поймешь. Быть вместе с ними тебе не позволит совесть, а за благородные порывы тебя будут бить по лицу. Ты обозлишься и в конце концов станешь таким же, как я.
— Нет, не стану.
— Не говори «гоп». Давай поживем и поглядим.
— Слушай, чего ты добиваешься, чего ты хочешь?!
Рябушкин усмехнулся.
Подошел к окну, долго глядел на крутояровскую улицу, словно хотел что-то там высмотреть. Резко повернулся.
— Я не хочу быть маленьким человечком и снизу смотреть на хозяев жизни. Понимаешь? А кто у нас в Крутоярове хозяева жизни? Козырин, Авдотьин… Я тоже хочу быть хозяином этой жизни. Понимаешь?
— А при чем тогда Савватеев?
— Он мешает мне. Да и вообще — почти все хотят одного и того же. Жирного куска! Только не говорят вслух. Мне этот кусок не нужен. А что нужно? Власть над людьми… и над Козыриным в том числе!
В какую-то минуту Андрею показалось, что Рябушкин раздевается перед ним. Бывают иногда случаи, когда человек раздевается, не стесняясь других. Видно, Рябушкину надоело носить свою мечту только в себе. Вот он сейчас и раздевался, и обнажалось что-то нечистое, с душком. До отвращения. Андрея передернуло.
— А ты сволочь, Рябушкин. Большая сволочь!
— Я на тебя, Андрюша, не обижаюсь. Придет время, ты эти слова возьмешь обратно.
Рябушкин удовлетворенно рассмеялся, хлопнул его по плечу и снова отвернулся к окну.
25
Огромные, донельзя разбитые кирзовые сапога безжалостно мяли зеленую траву, топали бездумно и грубо; болтались оторванные подметки, из них хищно торчали мелкие, добела обшорканные гвоздики. Пригибались к земле тонкие травинки, осыпанные тяжелыми каплями утренней росы; иные стебельки беззвучно ломались, роняли свои верхушки. А сапоги все топали и топали, оставляя за собой темный широкий след. Среди яркой и сочной зелени резко выделялся крохотный белый цветок на высокой дрожащей ножке. Чем ближе надвигались на него огромные, тупые сапожищи, перед которыми цветок был беззащитен, тем он сильнее дрожал.
Андрей изо всех сил хотел закричать: «Стой!», но голоса не было, голос пропал, горло, словно захлестнутое тугой петлей, рвалось от удушья. Сапоги топали и топали, ничего не желая знать и ничего не различая. Они не остановились, не замедлили свое топанье перед белым цветком — врезались оторванной подметкой в стебелек, сломали его, втиснули в землю белые лепестки, двинулись дальше, потянули за собой прежний темный и влажный след. По изуродованному стебельку медленно скатывалась капелька росы. Каплю пронзил отсвет первого солнечного луча, упавшего на луг, и она стала розовой. Такой и скатилась на землю. Такой и растаяла у корня сломанного цветка.
Читать дальше
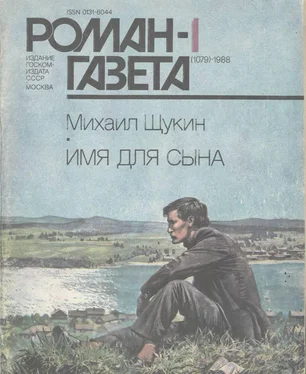



![Михаил Щукин - Рабыня [litres]](/books/35351/mihail-chukin-rabynya-litres-thumb.webp)




![Михаил Щукин - Нэстэ-4. Исход [СИ]](/books/405762/mihail-chukin-neste-4-ishod-si-thumb.webp)
