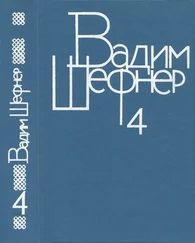А вот Володька продолжал думать о ней – это было видно по нему. И я не мог понять, зачем ему это. Я тоже умел думать, но я думал в это время о простых вещах.
Когда шел купаться, то думал в это время, как хорошо мне будет купаться, а потом я еще буду загорать – и это тоже хорошо. А когда я после купания лежал на бережку, то думал о том, что сегодня на сладкое бабушка готовит компот и что, когда я съем свою порцию, я буду разбивать косточки от урюка и лакомиться зернышками; для этого дела у меня специальный камень, он припрятан под крыльцом.
Очень редко, когда я был совсем один, когда мне никто не мешал и когда делать было совсем нечего, я начинал размышлять о том, чего нет. В таких случаях я всегда думал о велосипеде. Я знал, что живем мы бедно и велосипеда у меня не будет, пока не вырасту и не стану сам зарабатывать. Но до той поры было еще очень далеко, и поэтому я иногда выдумывал себе велосипед – будто он у меня есть. Я его не покупал, не крал – просто он откуда-то сам появлялся. Если зайти сейчас за угол избы, то там он и стоит. Новенький, с никелированными щитками, фирмы «Латвело», взрослый мужской велосипед; надо подойти к нему и до предела опустить седло, чтобы ноги доставали до педалей, – и езжай куда хочешь. Я на цыпочках шел за угол – вдруг он там на самом деле стоит. Но нет, ничего там не было. И тогда я снова начинал думать только о том, что есть на самом деле, и брел на речку купаться. Речка была мутная: где-то там выше по течению стояла на берегу бумажная фабрика, и отработанная вода шла в эту речку. Рыбы здесь не водилось, но для купания чистота воды не имела значения. Даже наоборот – плавать в такой непрозрачной, белесой воде было интереснее: самые мелкие места казались глубокими и таинственными. И когда я плыл над этой неведомой глубиной, мне иногда чудилось, что это уже было когда-то, может быть, наяву, а может быть, и во сне. И мне становилось жалко Володьку, который теперь не ходит на речку, а все торчит около дома.
А Володька так и околачивался все около дома, точно это могло ему в чем-то помочь. Однажды он даже сунул мне в руку записку – маленькую бумажку, сложенную, как пакетик для порошка. «Передать лично Э.» – вот какая была на ней надпись. Я отнес записку Эльвире в пристройку, она прочла и сказала: «Пусть твой брат не пишет больше таких глупых записок, а то я вашей бабушке скажу». Об этом я доложил Володьке. Он очень обиделся и обозвал меня обормотом, который ничего не умеет сделать с умом. Но на другой день он сам же завел со мной разговор.
– Вот, предположим, одному человеку нравится одна девушка, но она старше его, и он ей не нравится. Вот если бы ты был этим одним человеком, то что бы ты делал?
– Ну, не знаю, – ответил я, польщенный таким вопросом. – Может, я не стал бы на нее внимание обращать – так ей и надо. А может быть, я отличился бы чем-нибудь, сделал бы что-нибудь там удивительное, вроде как в сказке, и она сразу бы влюбилась в меня до безумия.
– Что значит «удивительное», что значит «как в сказке»? – сердито спросил Володька.
– Не знаю, сразу не придумать, но только я бы сделал что-нибудь удивительное. Купил бы, например, велосипед – и на крыльцо поставил незаметно. Она бы удивилась, заохала, а я бы спокойно сказал: «Вот здесь ничего не было, а я захотел – и велосипед появился».
– Так кому велосипед-то? – буркнул Володька. – Тебя не поймешь.
– Велосипед – мне. Он мужской.
– Боже, какой ты еще дурак! – отплюнулся Володька. – Мне даже страшно – неужели и я в твои годы таким же был?
– Ты и сейчас не больно умный, – огрызнулся я. – Я к тебе с вопросами не лезу, а ты ко мне лезешь.
А он, хоть и дураком меня обозвал, стал после этого разговора как-то живее. Стал в лес ходить, стал из дому пропадать – только без меня. Один раз ушел с утра и вернулся поздно-поздно. Бабушка сказала ему, что так нельзя, что он ударяется из одной крайности в другую.
А он сказал, что тренируется в дальней ходьбе. Каждый умный человек должен развивать свои ножные мускулы.
Однажды он напомнил мне, что давненько не были мы на нашей табачной плантации, – надо бы побывать там. И мы пошли в ольшаник, в самый конец низинки.
Там на полянке у нас были разложены для просушки срезанные ветки ольхи. Это был наш табак. В затяжку мы тогда еще не курили, так что нам было все равно, чем дымить. Мы свертывали из газетной бумаги большие козьи ножки, растирали между ладонями бурые высохшие листья – и закуривали. На этот раз наш тaбак часто загорался вместе с бумагой, и приходилось слюнить пальцы и гасить огонь: мы давно здесь не были, и листья очень уж пересохли.
Читать дальше