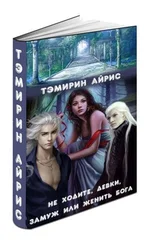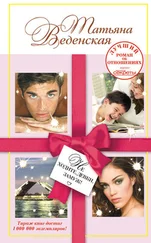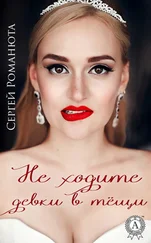— Ты про дело калякай, — закричал кто-то со стороны.
— Я про дело и калякаю. Я вам говорю про колхозное наше житье, которое гибель кулакам несет. Вот они против нас и изловчаются.
Атмосфера накалялась. Теперь уже председатель сладить с собранием не мог. Оно поделилось на три стана. Один ратовал за артель в сельском масштабе. Другой послушивал да помалкивал. Третий нападал на первых. Галдеж смял нормальное течение собрания. Председатель беспомощно ждал, когда улягутся страсти.
— Расея сохой пахала и всю Европу кормила. И Англию, и хваленую Америку, у которых машин полно. Нам машины не нужны, — кричали из того угла, которым верховодила Малафеиха.
— Все только о бедняках нынче беспокоятся. А ведь у каждого своих забот довольно, что нам до чужих.
— Не рука нам коммуния. Вместе встань, вместе выдь на работу, как в солдатах. Нет, своя полоска хоть тесна, да своя. И своя избушка — свой простор, — говорили пожилые патриархальные крестьяне, которые поддерживали просвирню.
Вокруг Вавилы Пудова сплотились члены мукомольной артели. Они были против объединения всех в одни колхоз. Аргументация была обычная: есть на селе трудовики — это они; есть на селе лодыри — это все остальные. Они говорили при этом:
— Надо не объединять, надо укреплять маленькие колхозы. Пускай оперяются. Они — коренная опора для Советской власти.
С ними спорили Аннычевы артельщики:
— Хитрецы! Это вам отдал Карл Карлович из именья инвентарь, скот, постройки. Вы даровое хапнули. Окопались в маленькой лжеартели.
— Вы и батраков своих в сельсовете не регистрировали. Они у вас проходили как члены семьи.
— Надо вас пощупать. И друзей ваших в волости да повыше. Ниточка эта в город тянется!
В избе не стихало разногласие.
Емельян, древний старик, говорил своим в кути:
— Бывало, приходит весна — матушка травка зеленеет, птички поют, бессловесная скотника и та радуется теплу да солнышку. А у нас руки опускаются. Ни коня, ни сохи, ни семян. Поневоле Канашу кланяешься. И злоба берет, что хомут на себя надеваешь, да деваться некуда. От такой жизни пора пришла избавляться.
Бабы, его окружающие, поддакивали:
— Уж известная была наша жизнь. В графском лесу запрещалось сучья да валежник собирать. Карл Карлович травил собаками: «Отброс! Русская сфинья!» Не было ни выгонов, ни выпасов. В одном месте толклась все лето скотина, а кругом лугов — глазом не окинешь. Пасли еще в зарослях да на болотах. А теперь... Да чего тут говорить-то, всем видно.
И рассказывали Старухину:
— Что мы видели при царе? Нищета. Побирушничество. Целая улица Голошубиха им занималась. На днях мы ее ликвидируем.
Соха да борона, землицы столько, что лошади и ступить тесно, непосильные подати да налоги, невежество, темнота, суеверия!
— Братцы мои, — отвечал тот, — да ведь я все это знаю. Я сам в рабочие вышел из деревни от нужды и малоземелья. В восемнадцатом году завод остановился, я в деревне очутился. Председателем сельсовета был в первые годы революции. В эсеровский мятеж нашу избу подожгли. Пришлось всем активистам бежать. Бежал и я. Ночевал в амбаре у приятеля и там украдкой жил. Вот раз стучат: «Вам чего надо?» — «Ты понадобился, материн сын». Подхожу, вижу: в седле нашего кулака сынок. Ко мне: «Ты кто такой?» — «Председатель». Он хвать меня плеткой: «Везде старосты, а ты еще председатель. Вот я тебе задам». Поставил меня на тропу в коноплю и метится. Выстрелил. Я упал и пополз. Он думал, что я убит, и уехал. А у меня на всю жизнь отметина осталась.
Он задрал рубаху и показал простреленное плечо. Люди сгрудились около него, заговорили:
— Тертый калач. Наших кровей... Подходящий будешь председатель колхоза... Мы возврата к старому не хотим... Вон она (указали на Паруньку) до шляпки дослужилась, но сердцем осталась наша... Вы с ней заодно лавируйте. Она горя тоже хватила до ноздрей...
— Зря бы партия нас не послала, — сказал Старухин. — Там люди с головой. Еще в пятом году нас с отцом за землю лупцевали да при Керенском. Министр земледелия Шульгин прислал в наше село отряд, он за барский лес мужикам все спины расписал.
— И мы за графский лес пороты, послышалось со всех сторон.
Воспоминаниям не было конца: кто был расстрелян, кто был конями затоптан, кто сечен.
— При Керенском мы написали графу записку, — говорил молодой парень Старухину, озорно сверкая глазами: «Прирежьте нам землю, иначе мы вас прирежем». Ответа не последовало.
— Стерню [209] Стерня — жнивье, остатки (нижняя часть) стеблей злаков после уборки урожая.
и ту, бывало, у графа мы по тридцать копеек за десятину покупали. А цена работе от зари до зари — пятнадцати часам — была двадцать копеек поденно на своих харчах. А за неплатеж податей последний самовар забирали, холсты у баб, горшки.
Читать дальше