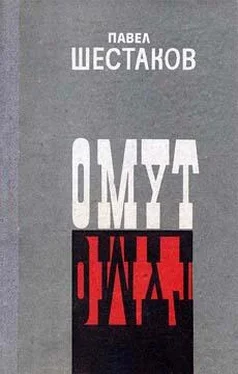— Ну, хорошо. Через подкоп в коллектор, оттуда через люк во двор. А дальше-то куда?
Третьяков знал, что двор банка был построен для хозяйственных нужд. Хода в подвалы отсюда не было. Кроме того, он был обнесен высокой оградой и находился под наблюдением охраны.
— Это же не двор, а мышеловка. Какой толк туда пробираться?
— Вообще — да. Но сейчас дело другое.
И Шумов начал в деталях рассказывать, как сейчас, когда в банке заменяют частично водопроводную сеть, можно проникнуть из люка в подвал.
— Я там все излазил. Выпачкался, как трубочист. Так что поверьте, этот Волков им все расчертил правильно.
— Ну а полезет-то кто?
— До самого последнего времени дом принадлежал вдове булочника.
— Значит, старушка полезет. Не надорвется?
Третьяков шутил, потому что чувствовал: Шумов свою работу сделал.
— Нету уже старушки, Иван Митрофанович.
— Преставилась?
— Жива. Дом продала.
— Здорово.
— И как вы думаете, кому?
— Зачем мне думать, раз ты знаешь.
— Молодожены приобрели.
— Неужели они?
— Они самые.
— Муравьев и сестра милосердия?
— Так точно.
— И расписаться успели?
— Все по закону.
— Ничего себе медовый месяц.
— Какой там медовый месяц! Молодожены — ширма. Орудует-то Техник.
— Вот и сомкнулись.
— А может быть, кто кого обманет?
— Выясним. Возьмем, с поличным и выясним.
— Когда?
— После рейса пароходного.
— Это хорошо.
— Одобряешь?
— Прошу меня в этот рейс послать.
Третьяков сказал строго:
— Возражаю.
— Почему?
— Ты тут нужнее.
— На пароходе многое определится.
— Что? Техник туда не полезет, факт. А с остальными одна стрельба. А тут головой думать нужно.
— Я, между прочим, стреляю хорошо.
— Другие не хуже. И наши, и они, кстати, дорогой товарищ.
Шумов почувствовал, что у него, как у подростка, вспыхнули щеки.
— Это что ж, Иван Митрофанович… Вы меня оберегаете?
— А что в этом плохого или для тебя позорного? Что ты, как девица, зарделся? — спросил Третьяков спокойно. — Смотри, как разволновался. Это, брат, в тебе буржуазное, пережиток. Оберегаю. Но ты не дите барское, а я не няня, которая дрожала, как бы у барчонка из носу не потекло, Я тебя не от дождика оберегаю, а от бандитских пуль. С точки зрения интересов революции. Ты еще много пользы принести можешь…
— Спасибо, но я такую точку зрения принять не могу.
— Не уразумел?
— Нет. Потому что вместо меня другой под пули пойдет. Разве он менее ценен?
Третьяков нахмурился:
— Вопрос твой демагогией отдаёт и опять-таки пережитками. Но я отвечу на твой мелкобуржуазный выпад. Не за тебя другой человек на опасную операцию пойдет, а за народное дело на своем посту. А ты на своем будешь. Вот и все.
— Это теоретически. Но сейчас, когда последний удар наносим…
Третьяков смотрел взглядом старшего, строго, но снисходительно немного.
— Твоими устами да мед бы пить, парень. Последний, говоришь? И решительный? Верно. Но ты наш гимн вспомни. Как мы раньше пели? «Это будет». А теперь как поем? «Это есть». А когда споем «это был»? Не знаешь? И я не знаю. Венгерскую революцию удушили? А Бавария? А Германия вся? А Европа антантовская? А Северо-Американские Штаты? Там знаешь еще какой у капитализма резерв?
— Вы еще Австралию назовите.
— В Австралии я был. И там у буржуазии резервы сильные. Так что будь уверен, работы тебе хватит. В свое время и на своем месте, А за ту работу, что проделал, революционное тебе спасибо, товарищ Шумов.
— Это все?
— Все. А ты что думал? На орден рассчитывал? Ты что, Блюхер?
— На орден я не рассчитывал, а на большее доверие право имею. Это я осуществлял план, задуманный вами с Наумом. Позвольте мне его и до конца довести.
— Ну и ну! Я ж тебе целый час в мировом масштабе разъясняю.
— А я в местном прошу вас, Иван Митрофанович, позволить мне выполнить мой долг.
— Упрямый ты. Что ж мне, приказывать тебе, если понять не можешь?
— Разрешите, товарищ Третьяков!
— Я ему про всемирную задачу, а он с какой-то бандитской швалью носится…
Шумов молчал.
— Что молчишь?
— Не хочу барчонком быть, которого от насморка оберегают.
Теперь Третьяков помолчал.
«А что, если он прав? Раз так настаивает, значит, необходимость чувствует…»
— Ладно, Шумов. Но запомни!
— Запомню.
— Убьют тебя, лучше не возвращайся.
И поднялся из-за стола, протягивая ему большую руку.
* * *
Пароход был стар, и только потому не увели его белые за кордон. Зато они увели много других судов, и оставшимся приходилось служить, не считаясь с возрастом. Еще в прошлом веке, в молодости, окрещен он был «Княжичем» и, возможно, был даже щеголеват, но годы сделали свое дело, и теперь старая посудина с допотопными колесами так же мало походила на «Княжича», как и на «Пролетария». Новое название сил не прибавило, а следы былой роскоши — потемневшие зеркала, тусклая позолота и потертый плюш классных помещений — скорее, ассоциировались с упадком буржуазии, чем с победоносным мускулистым гегемоном.
Читать дальше