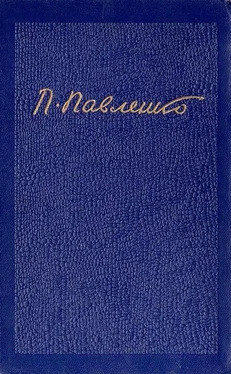— Вам бы лежать и лежать. Закрыть глаза и лежать, ни о чем не думая.
— Нашему брату, Оля, это не с руки. Покой чекиста портит. Вот лежал я, на семь кило пополнел — на семь лет постарел. Нет, нет, — сказал он смеясь, — не моя, знаешь, специальность отдыхать, не умею этого… А сил сколько уходит на отдых! Ну его к дьяволу!
Но Шлегель был плох, как ни старался бодриться.
— Вам сейчас лет сорок пять можно дать, — сказала Ольга.
— Да, да, перележал. Я себя знаю, — опять повторил Шлегель и перевел разговор на другую тему.
Шлегель еще долго не отпускал Ольгу, долго водил ее по тихому большому берегу, расспрашивая об экспедиции и ребятах.
— Я бы сам поднялся на север, но не могу. Если что, пишите мне, — сказал он, прощаясь. — А я отвечу. Я здорово пишу письма, честное слово. Плохие поэты всегда пишут хорошие письма.
У Звягина подобрались отличные ребята, и они так сроднились между собой, что образовали семью. Об окончании плавания думали, как о несчастье.
25 сентября Звягин был в лимане Амура первым из всех.
Ольга устроила всю группу в старой бане Зуева.
В Николаевске-на-Амуре все было тихо, город еще не вернулся из тайги и моря. Недели через две ждали человек двести с приисков и разведок, и предполагалось, что состоится не менее сотни свадеб. Николаевские девчата нервничали на вечерних уличных гуляниях, ожидали первой осени и вместе с ней женихов из тайги.
В то самое время, как Ольга шла с экспедицией к северу, Луза получил телеграмму от Михаила Семеновича, приглашающую приехать к нему и, несмотря на то, что дел на границе было по горло, выехал в Никольск-Уссурийский. Михаил Семенович приглашал с собой в поездку по краю в связи с предстоящим съездом партизан.
— Народ тебе надо будет подобрать — для приграничной полосы. И вообще проветриться…
Ехали в салон-вагоне втроем, не считая проводника, — Михаил Семенович, порученец Черняев и Луза; но это было только в идее, а на самом деле в вагоне толпилось по меньшей мере двадцать или тридцать человек. Они влезали на маленьких станциях и, от остановки до остановки, докладывали о хлебе, о сое, о кадрах, потом, не успев попрощаться, вылезали, и вместо них появлялись другие.
Во Владивостоке стояло солнечное и ветреное утро. Вагон поставили в тупик, почти у берега залива. Из вагона были видны корпуса пароходов, слышно пение грузчиков и удары волны в гранит эстакады. Было еще рано. Город спал. Связисты сунули в угол вагона два телефонных аппарата и включили вагон в мир. Черняев, в голубом бумажном трико, зловещим шопотом закричал в трубку:
— Алло, город, алло!
Наскоро выпив чаю, Михаил Семенович и Луза пешком пошли в город, смотрели, как дворники метут улицы, как открываются магазины, заходили на почту, в больницу, на Миллионовку, где в улочках-щелях копошились воры и контрабандисты, а кондитеры пекли и варили какую-то сладкую ерунду, пахнущую чесноком.
Потом они сели за общий стол в дешевой столовой и вместе с портовыми рабочими съели какой-то острый соус, сладковато-кислый и душисто-вонючий, запив его теплым, почти горячим, пивом.
Потом вошли они в только что открытый магазин готового платья и долго приценивались к вещам, а в десять часов утра вернулись в вагон заседать.
Не успел Луза выпить у проводника бутылку нарзана, чтобы рассеять вкус соуса, как из салона он услышал голос Михаила Семеновича, заработавший на низких нотах. Он почти кричал:
— Пальто стоит триста — с ума сойти! Кому продаете? Город грязный, запущенный. Дворники с утра пьяны. Улицы нужно иногда поливать водой, слыхали об этом? Или вам создать институт по уборке улиц?
Луза сидел в купе рядом с салоном. Доклады о рыбе, золоте, детях и банно-прачечном деле ходили в его голове, как дым. Порученец Черняев шопотом кричал в телефонную трубку, чтобы соединили с краем. Проводник стоял в тамбуре, строгий и бледный: он был так близко к государственному делу, что, ему казалось, должен был принимать посильное участие, — торжественно впускал посетителей и делал им знак пройти или подождать, не говоря ни слова.
— Насчет обеда ничего неизвестно? — спросил его Луза.
— Видите, принимает, — ответил проводник. — До вечера не управимся.
Луза вернулся к себе в купе. Молодой профессор говорил в салоне Михаилу Семеновичу:
— Мне больше нечего делать. Техникум создан, кадры налицо. А у меня в портфеле начатый исторический труд…
— Давно в партии?
— Десять лет… Слушайте, Михаил Семенович, я сделал все, что мог. Как говорится, даже самая лучшая девушка не может дать больше того, что у нее есть.
Читать дальше