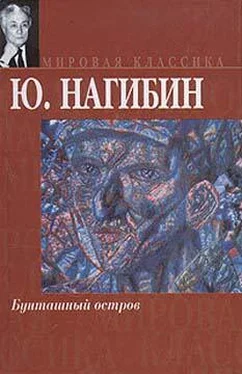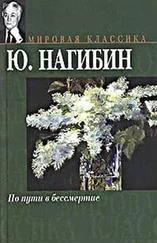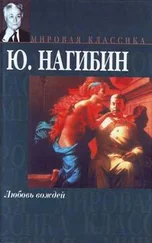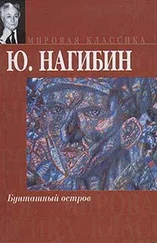— Нонсенс — это абсурд, ну, чепуха, бессмыслица, — пояснил вальяжный человек. — При чем только тут этика? — обратился он к Егошину.
— Ага! Вы не спрашиваете, при чем тут экономика. Значит, вам понятно, во что обходится государству картошка, которую неумело, с огромными потерями убирают люди, получающие от полутораста до пятисот рублей в месяц. Обратимся к этике. Я не верю в Ромео, спешащего на свидание к Джульетте после прополки турнепса, в Джульетту, едва отмывшуюся после овощной базы, не представляю, чтобы виттенбергский студент Гамлет мог закрутить свою великую карусель, перебрав вместе с Горацио тонну гнилой капусты. В лучшем случае на это годятся Розенкранц и Гильденштерн. Я не вижу на овощной базе юных Герцена и Огарева.
Троица с брезгливым удивлением смотрела на разговорившегося молчуна, мозгляка-очкарика, вечного редактора, засохшего на ста шестидесяти, человека, не растущего, никогда не бывавшего за рубежом, лишенного малейших привилегий, заслуженных преимуществ и позволяющего себе поучать их.
— Ну а себя вы кем видите, — насмешливо произнес вальяжный человек, — Ромео, Гамлетом, Горацио или?..
— Отелло. И мне не задушить Дездемоны после окучивания брюквы, если только ее окучивают.
— Вы сообщили о своих взглядах товарищам по работе? — спросил жадно куривший человек.
— У меня здесь нет товарищей, только сослуживцы.
— Хороши же вы!.. — вмешалась тучная женщина. — Столько лет в коллективе — и не иметь друзей?
Егошин промолчал.
Курильщик ожег болтунью сабельным высверком взгляда и вернулся к своей теме — его вкрадчивый тон разительно противоречил горячечной выразительности глаз.
— Ну а если бы вас спросили?..
— О чем?
— Об этом самом, — сказал тот терпеливо.
— А-а!.. Никто не спросит. Все знают, что у меня есть документ.
— Документ — это хорошо. Но мне все же хотелось бы… — Понимаю, — пришел ему на помощь Егошин. — Я уже сказал, что считаю такого рода вопросы делом… вкуса каждого. К тому же, видите ли, я не земледелец, но и не борец. Нестроевик по всем статьям. Редактор отдела поэзии.
— Как можно вам доверять воспитание!.. — начала задыхающаяся под собственным жиром женщина, но тот, что сжигал нутро никотином, успокоился и бесцеремонно прервал ее:
— Ладно! Мораль читать уже поздно. Документ есть. Язык не распускает. У нас — все!
И Егошин покинул кабинет.
— Тоже — интеллигент! — презрительно выхрипнула толстуха, на украинский лад произнеся букву «г». — Гнать таких надо!
— Если б у меня был план только по картофелю и турнепсу, — сказал вальяжный человек, — я бы давно его выгнал. Но я должен еще и литературу выпускать.
Разговор этот имел для Егошина лишь одно отрицательное последствие: отныне его стали тщательно обходить премиями, поощрениями, наградами, даже простыми благодарностями. Но разве унизишь этим человека, который не стеснялся ходить на работу с продранными локтями и без единой пуговицы на пиджаке? Когда же ему указали на неприличие такого вида, он стал являться в любой сезон в белой рубашке-апаш, сохранившейся с довоенной поры, и в лыжных штанах. Он не потрудился объяснить сослуживцам, что деньги, отложенные на новый костюм, ухнул на случайно подвернувшийся «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. С полным равнодушием относился он к тому, что отпуск ему дают только в ноябре или апреле (глубиной души он никогда не верил в свой соловецкий вояж), а в эти неуютные месяцы прекрасно валяться на продавленном диване с книжкой в руках. Сослуживцы в конце концов заметили стойкую немилость начальства к Егошину и бессознательно взяли с ним небрежно-высокомерный тон. Как-то само собой получилось, что его рабочее место переместилось к окну, на сквозняк, и теперь он не вылезал из простуды. Его хронический насморк стал предметом постоянных шуток, тем более что холостяцкие носовые платки Егошина не отличались свежестью. Его прозвали «бациллоносителем» и при каждом удобном случае ехидно замечали, что работавшая прежде на этом месте кудрявая Машенька почему-то не простужалась. Можно было напомнить, что Машенька почти не присаживалась к своему письменному столу, как-то иначе используя служебное время; но Егошину это и в голову не приходило. К чему было заводиться, если все это ничуть его не трогало, не доставляло даже минутного огорчения, ни тени раздражения и досады?
Лишь изредка с добродушной усмешкой он сознавал, что его свойства, поступки, привычки, облик кажутся окружающим нелепыми, отсталыми, смешными, но не задерживался на этом душевно, ибо в мире было столько прекрасного: стихи, проза, картины, музыка, красивые лица, солнце, небо, облака, снег, весенняя капель, грозы, упоительные безнадежные верленовские осенние дожди и ведь, кроме настоящего, дано прошлое, и при малом усилии он может спорить с Сократом, плотничать с Петром, плыть в последнем менуэте с Марией Антуанеттой, шагать в каторжном строю с декабристами, слыша справа дыхание Пущина, а слева — Бестужева, и на дивном этом пиру, дарованном невесть за какие заслуги, волшебном, но таком кратком пиру не успеешь надышаться поэзией одного Пушкина, а ведь есть еще Тютчев, Лермонтов, Фет, Анненский, Блок, Мандельштам, и чего стоят рядом с этим те малости, которыми люди стараются отравлять друг другу мимолетность бытия? Надо закрывать глаза на все мелкое, лишнее, до предела упростить существование, и ты становишься свободен, как птица, если птицы действительно свободны.
Читать дальше