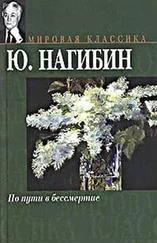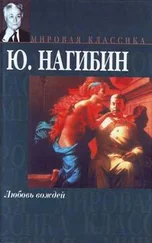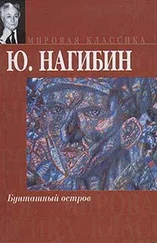Юрий Маркович Нагибин
Посланец таинственной страны
Рассказ
Сергеев возвращался из клуба Научного городка, находившегося километрах в пятнадцати от его загородного жилья. Легковой машины не оказалось, и его отправили домой в служебном автобусе, не уступавшем размерами рейсовому. Пустой автобус гремел, громыхал, подпрыгивал на щербинах и неровностях шоссе, раскачивался из стороны в сторону, будто его трепал свирепый сухопутный шторм. Когда они добрались до поворота к писательскому поселку, Сергеев попросил водителя высадить его, хотелось скромнее обставить свое возвращение домой — зачем столько шума, треска, дизельной вони, зачем населять тихую зеленую улицу неуклюжей громадиной, которая будет долго реветь, газовать, смердеть, ворочаться, ломая протянувшиеся из-за оград ветви плакучих берез и поздно зацветшей черемухи, чтобы развернуться на узкой дороге, — сквозного проезда не было.
К тому же хотелось перевести дух, собраться нацельно после трехчасового дерганья, когда тебя алчно расспрашивают о тайнах мироздания, о прошлом, настоящем и будущем, словно жалкий бумагомаратель действительно знает что-то скрытое от других смертных, пытают жгучими нравственными вопросами и со странным сознанием своего права вторгаются в интимную жизнь.
И все же его душевная смута объяснялась другим. Неприятно уколол вопрос: что вы думаете о сегодняшней молодежи? Вопрос был не нов, и ему чаще всего предпосылались лестные для Сергеева слова, что, мол, вы помогли сохранить образ московского детства двадцатых-тридцатых годов и предвоенной юности, почему же сегодняшняя молодежь отсутствует в ваших книгах? Обычно он уходил от прямого ответа, обманывая скорее самого себя, нежели аудиторию, а тут впервые сказал без обиняков: потому что я не знаю сегодняшней молодежи. И от правдивого этого ответа остался струп на кончике языка.
Когда он вышел из автобуса, разом посмерклось, ночь наступила мгновенно, чего не должно быть в июне. Обычно день истаивает медленно, он брезжит и в одиннадцатом часу вечера, когда давно уже отгорел закат, тени на земле почернели, уплотнились, слились, но высокое небо по-прежнему светло стекленеет и ласточки, доверяясь его свету, промелькивают в вышине, хотя им давно пора спать в своих глиняных гнездах. Сейчас небо затянуло, и ничто не мешало подымающейся от земли тьме завладеть пространством.
Сергеев двинулся по едва различимому под ногами шоссе, сперва краем фабричного поселка, потом через поле, поглощенное темнотой и напоминающее о себе тягой свежего ветерка. Ему хотелось понять, когда же он сам потерял молодость, превратился в человека другой эпохи. Он очень долго оставался молодым, отчасти из-за войны, которая одним оборвала молодость, другим ее продлила.
Вернувшись с фронта двадцатичетырехлетним, он начал все сначала: институт, студенческие заботы, студенческая нужда и студенческая бесшабашность. Как и другие бывшие фронтовики, вновь ставшие студентами, он соединился с молодостью не затронутого войной поколения восемнадцатилетних. И вскоре весьма уютно почувствовал себя в этом чужом мире, поскольку не тащил туда войну.
Такое удавалось далеко не всем, да и не все к этому стремились, а ему удалось. Его шальная послевоенная жизнь была молодой жизнью; боль, печаль, жестокий и горький опыт отступили под напором неизрасходованных, жадных сил. И любилось до упаду. И читал взахлеб, и учился здорово, и ни от какой работы не бегал. Все — в край, но он не растрачивался в этом, а будто полней и крепче становился.
А потом началась литература, и в ней та новая, странная и неизбежная молодость, в которой так прочно консервируются новобранцы отечественной словесности. Хочешь быть до старости молодым — ступай в писатели! Ну а серьезно?..
Ощущение неугасшей молодости поддерживалось в нем долгой возней с минувшим. Он так старательно тянул в настоящее переулки своего детства, гулкие московские дворы своего детства, дождливое подмосковное лето своего детства и все милые образы, что, сам того не замечая, существовал в каком-то искусственном двойном бытии, где сквозь размытые контуры сегодняшнего резко и отчетливо проступало черты прошлого. Так бывает, когда на один и тот же кадрик фотопленки сделаешь по ошибке два снимка.
Его писание не было мемуарным, тогда бы сохранилось чувство расстояния, а с ним и чувство возрастного сдвига. Нет, он жил в этом призрачном мире, принимая его за действительный, жил горячо, заинтересованно — былыми счетами, отношениями, увлечениями, обидами, радостями, не позволяя себе стать взрослым. Иногда казалось, что иллюзорный этот мир совпадает с молодым миром сегодняшнего дня, но затем он убедился, что его писания, как и сам он весь, представляют интерес лишь для его седеющих сверстников, а для «теперешних» он давно стал ископаемым, а его песни чем-то вроде забытых русских романсов.
Читать дальше