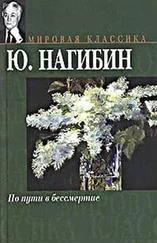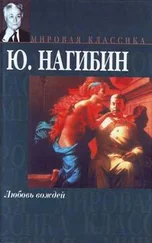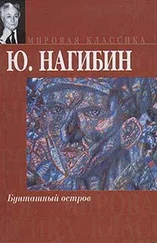Мы обменялись рукопожатием.
— Нинка! — остановил Шворин проходившую мимо сестру. — Оказывается, этот человек написал «Гвардейцев на Днепре»!
— Ну и что? — спокойно спросила Нина.
— Хорошенькое дело! Фронтовики зачитывались этой книгой!
— А ты откуда знаешь? — И Нина пошла своей дорогой.
— Видали? — Шворин с юмором поглядел на меня. Он предложил мне выпить в честь знакомства, косо, широко шагнул к столу палкой и левой половиной туловища и наполнил рюмки.
— За гвардейцев жизни! — сказал он с чувством.
Мы чокнулись, я выпил до дна, он только пригубил.
— Нельзя, — сказал он, перехватив мой взгляд.
Он и позднее почти не пил, но вел себя как сильно захмелевший человек. Хмелел он не от вина — от внутреннего неперегорающего возбуждения. Казалось, из нескольких мест одновременно слышался его громкий, самоуверенный, перекрывающий все прочие шумы голос. Он вторгался во все разговоры и споры, безапелляционно выносил суждения, приговоры, законодательствовал в самых разных областях: от домашнего хозяйства до музыкального образования детей.
Меня он тоже не забывал.
— Вы должны написать обо мне, — говорил он, нависая надо мной широким, тяжелым телом. — Моя жизнь — это тысяча и одна ночь! «Гвардейцы на Днепре» — ерунда, вы сделаете такую книгу, что сразу прославитесь. Нам бы только выкроить вечерок, я вам все расскажу… Деньги не интересуют меня, важно запечатлеть опыт!..
По правде говоря, я уже не испытывал к нему давешней горячности. Мне начинало казаться, что он не читал «Гвардейцев на Днепре» и даже не слышал ранее моей фамилии. Чтобы не попадаться ему на глаза, я забился в дальний угол, где оказался в соседстве с самым тихим и молчаливым гостем, Сергеем Сарычевым.
Это был рослый, дородный парень, с крупным, смуглым лицом и прекрасными, печальными коровьими глазами. Судьба обошла его высокой участью быть нашим одноклассником, право находиться среди нас досталось ему по наследству от старшего брата Мити Сарычева, погибшего на войне. Он позвонил Нине, назвал себя и сказал о своем желании увидеть друзей погибшего брата. Нина пообещала пригласить его на ближайшее наше сборище, но сделала это не раньше, чем с зимовки вернулась Зоя Астанина; «трижды безнадежно любимая» — называл ее Митя. Он любил ее щенком, подростком, юношей и во всех трех ипостасях не пользовался взаимностью. Нина обнаружила редкую прозорливость: Митин брат показал нам, что было бы, останься Митя в живых. Сергей приходил, прятал свое крупное тело в тень и укромность и неотрывно смотрел на Зою. Высокая, крепкая, красно-рыжая, с очень светлой кожей и по-монгольски припухлыми, удлиненными глазами, Зоя была равнодушна к Мите, но сейчас, когда его не стало, вспоминала о нем чаще, чем о других ушедших товарищах. Она была счастливой женой, матерью, кандидатом наук, трезво знала, чего хотела, и шла прямым, ясным путем, но поэзия ее жизни умерла вместе с Митей. При всей своей трезвости и сухости, она понимала это; однако, способная постигнуть поэзию минувшего, она начисто не могла оценить ее в настоящем. Сергей Сарычев раздражал ее.
— Чего вы уставились на меня? — говорила она резко. — Это же пустой номер.
— Я знаю, — спокойно отвечал Сарычев.
— Ну и нечего!..
— И нечего… — повторял он покорно-насмешливо, и боль сияла в его коровьих глазах.
Никто из нас не знал, чем занимается Сергей Сарычев, где работает, живет, есть ли у него семья. Он пришел Митиным посланцем, не обремененный никакими жизненными тягостями, с единственным назначением: продолжать любить Зою. Впрочем, мы знали, что у него есть машина, тогда это было редкостью.
— Я подвезу вас, — сказал он Зое, по обыкновению, покидавшей компанию первой.
— Не требуется! — ответила она грубо и вышла из комнаты.
Я сидел возле Сергея и видел, как спокойно, чуть улыбаясь, он вынул изо рта папиросу и, словно в донце пепельницы, уткнул горящим концом в тыл ладони. Папироса стала торчмя в прожоге кожи, запахло горелым. Он щелчком сбил папиросу на пол, стер кровь и уголь, спрятал израненную руку в карман.
Вскоре я тоже собрался уходить, он предложил подвезти меня.
— Нам по пути, — сказал он.
— Вы разве знаете, где я живу?
— У Кропоткинских ворот.
Одеваясь в прихожей, он тихонько и очень музыкально напевал:
Я вам скажу один секрет,
Кого люблю, того здесь нет…
Заметив, что я слушаю, он заулыбался, но петь не перестал.
Кого-то нет, кого-то жаль,
К кому-то сердце мчится вдаль…
Читать дальше