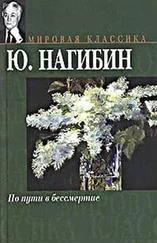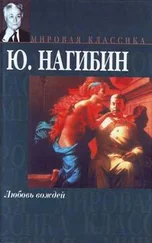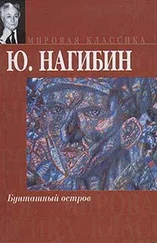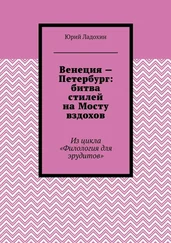Еще в пору нашего переселения за город мне не раз доводилось видеть Покровскую фабрику и фабричный поселок, но не с речной стороны, а с фасада. Фабрика была под стать всем провинциальным маломощным текстильным предприятиям прошлого века: почерневший кирпич, пыльные, подслеповатые окна цехов, задымленные вверху трубы. К фабричной ограде лепились деревянные и оштукатуренные бараки, кирпичное общежитие в окружении жестяного городка, краем сползающего в овраг. Только в Марокко видел я такие города из кусков жести, пустых консервных банок и прочей дряни, но Покровский бидонвиль принадлежал к нежилому фонду — это были сараи жителей фабричного поселка.
Совсем иное впечатление производила фабрика с реки: она казалась выше, мощнее, современней. Ни бараки, ни жестяной городок не проглядывались отсюда, а берега и островки были густо и живописно усеяны местными жителями. Коча, поднятая плотиной и затопившая окрестность, породила тут новый быт, новые обычаи. Рабочий день давно кончился, и все покровское население находилось на реке. Пили чай целыми семьями из больших, сверкающих самоваров, раскалывали о землю остуженные в реке пунцовые арбузы, качались в гамаках, натянутых между березами, играли в карты на траве, гоняли мяч, купались, мылись, надраивали друг дружке спины, намыливали себе головы и слепо нашаривали обмылок на береговой кромке, стирали, били вальками, полоскали и выжимали белье, ловили рыбу удочками, спиннингами, жерлицами и вершей, а два голозадых человека степенно влачили вдоль берега потрепанный бредень.
На островке дебелая матрона, выйдя из воды и выгнав оттуда троих поразительно схожих загорелых, стройных детей, стала вытирать им спины полотенцем. Затем она отстегнула лифчик гибким движением руки и повесила его на ветку орешника. Листья скрывали ее фигуру, оставляя на виду лишь полные плечи да вздымающиеся к мокрым волосам руки. Уже сильно тронутая годами, она пышно отпраздновала праздник своего запозднившегося материнства, создав этих шоколадных, прелестных детей.
Я улыбнулся прекрасной немолодой женщине, приветствуя чудо, заключенное в ней. Она ответила мне спокойной, сознающей улыбкой.
— Давайте я схожу… нигде больше не достанешь… — толкался мне в барабанные перепонки настойчивый и скучный голос Боркина.
Задним числом я понял, что он талдычит об этом уже давно. Я протянул ему деньги. Пожилая женщина неспешно вытиралась, а другие женщины входили в реку, поплескивали на себя, чтобы привыкнуть к холодной воде. Красивые, загорелые дети ныряли с берега в реку, раскачавшись на гибких ветвях ивы; девочки убегали от мальчиков и по суше и по мелководью, стройно прогнув спину, мальчики преследовали их, наклонившись, как в штыковой атаке; белый конь, ведомый нагим воином с белым телом, загорелыми лицом, шеей и руками до локтей, ступил в воду, и вышагнув за береговую тень, засверкал, засеребрился. Близящееся к закату солнце тяжело зачервонило воду, кирпичные стены фабрики пылали, точно замок, объятый пламенем. Звучали гитары и транзисторные приемники. Вода, властно проникнув в бытие Покровских людей, одарила их новой живописностью.
— Не хватает только баркаролы, — сказал я инспектору ГАИ, вновь грубо нарушив его сосредоточенную тишину.
Удивительно быстро вернулся Боркин с бутылкой кубанской, банкой консервов и невесть где прихваченным граненым стаканом.
Я выпил за плавающих женщин; и за женщин, сидящих на берегу, и готовящихся войти в воду, за путешествующих и прикованных к родному очагу, за покровских и венецианских женщин выпил я полстакана кубанской, и еще я выпил за всех мужчин и всех детей, за нагого воина и его коня, и закусил тюлькой. Хемингуэй знал, чем пахнет смерть, но он не знал, какова смерть на вкус. Для этого надо вкусить консервированной тюльки. Если натереть дверную медную ручку тухлой селедкой и очень долго сосать, можно получить некоторое представление о вкусовом шоке, испытанном мною в покровской лагуне.
Боркин и автоинспектор истово разделывались с кубанской и ужасной закуской.
Банка из-под тюльки легла на затопленное дно лодки и засверкала там драгоценно, выпятив свое острое, в зубчиках, донце, пустую бутылку и стакан убрали под скамейку. Взвыл мотор, и мы двинулись в обратный путь. С грустью и нежностью провожал я глазами свою Венецию.
Неподалеку от висячего моста, у острова, прикрепленная цепью к пеньку стояла лодка. На корме, закинув руки за голову, возлежала в купальном костюме все та же испаночка, а меж ее колен, ну, прямо Гамлет, развалился загорелый, черноволосый юноша в темных очках. Другая пара столь же непосредственно пристроилась на носу.
Читать дальше