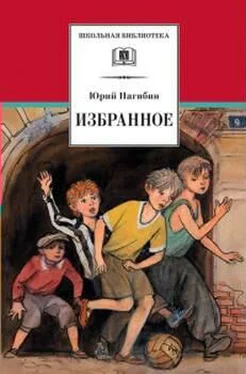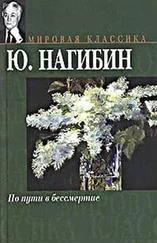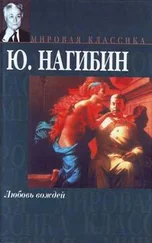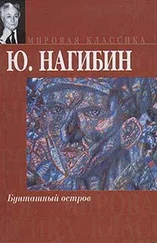О Славе Зубкове я ничего не слышал до того самого дня, когда встретился с ним на дворовом сборище в честь двадцатипятилетия со Дня Победы. В отрочестве нас сблизило увлечение оперой, хотя поклонялись мы разным кумирам, затем пути наши решительно разошлись. Слава страстно увлекался математикой и постоянно решал головоломные задачи, исписывая мелом или куском извести тротуары и стены во дворе. Оказалось, что и прежде непонятная нам Славина погруженность в себя объяснялась тем, что в мозгу у него непрестанно роились цифры и формулы, вступая в сложнейшие и запутаннейшие взаимоотношения и требуя его вмешательства. Он искал от них спасения в спорте, в музыке, но они не давали ему разгуляться, вновь подчиняя себе.
Я же терпеть не мог математику, и мы раззнакомились настолько, что даже перестали здороваться. Слава вышел победителем первой математической олимпиады московских школьников, и все были уверены, что он станет вторым Эваристом Галуа, которого напоминал гением, молодостью и решительным характером. К общему удивлению, он пошел в технический вуз, связав себя с прикладной математикой. С тех пор я потерял его из виду…
Обнаружив Славу среди ветеранов двора, я испытал к нему большее влечение, нежели к другим друзьям детства. Быть может, за ним потянулись Павлик и Толька, которых я нес в себе, как вечную боль.
Славин облик удивил и огорчил меня. Мы все с годами стали крупнее, да и выше ростом, ведь люди растут и после совершеннолетия, а он усох, укоротился — какой-то старый мальчик, чуть надломленный в пояснице, худой, с вылущенным лицом. Единственный из всех он пришел в военной форме. Китель сидел на нем мешковато, фуражку он держал под мышкой — был очень жаркий день, — и его короткие серые волосы казались не поседевшими, а увядшими. Типичный отставник, приплывший в тихую гавань «без славы и без злата», определил я его для себя. Правда, такое впечатление он производил лишь издали. Когда нам удалось сойтись, Славин образ усложнился. На его погонах были крупные генеральские звезды. Инженер в генеральском звании — это вовсе не капитан Копейкин, каким он мне привиделся. И весь его облик читался теперь иначе. Он мог позволить себе донашивать старую форму, потому что внешний вид не играл для него никакой роли. Он приехал прямо с работы, это чувствовалось по утомленному дыханию, теням под глазами, седоватой щетине, проступившей на худых щеках и подбородке, пятнышкам чернил на бледных пальцах. Его «непарадность» можно было в равной мере счесть и трогательным доверием к старым друзьям, и чуть барственной небрежностью человека, привыкшего к тому, что он не подлежит обсуждению.
Я спросил его, помнит ли он о нашем былом увлечении.
— Да, конечно, — ответил он с той мгновенностью и точностью отзыва, что отличало его в детстве, но без всякого тепла.
— А в оперу ходишь?
— Нет! — Он улыбнулся. Усохшее лицо его пошло морщинами. Улыбка сразу погасла, но кожа долго не могла разгладиться. — Давным-давно перестал. Не на кого молиться.
— Разве нет хороших певцов?
— Хорошие есть, богов нет.
— Какое же твое хобби?
— Детективные романы на английском языке. Я подсчитал: каждый автор располагает от тысячи до полутора тысяч слов — как раз по мне.
— А не скучно?
— Ничуть. К тому же полезно. Мне английский нужен. Литературная макулатура помогает поддерживать форму.
— А по-русски ты совсем не читаешь?
— Ты, видимо, хочешь спросить, читал ли я тебя? Нет. Но я не читал и других современных писателей, если они существуют. Не хватает времени. — Вдруг он резко обернулся, и чуть отмякшее лицо его жестко подобралось. — Какой вздор! — громко сказал он своим тоже словно похудевшим, с неприятными, стеклянными нотками голосом, заменившим прежний юношеский басок. — Какой пошлый вздор ты несешь!
Это относилось к Любке Кандеевой, и я сразу вспомнил то, что безотчетно воспринимал слухом во время нашего разговора с Зубковым. В скверике посреди двора, как и тридцать лет назад, играли дети, и Любка Кандеева выразила надежду, что этих детей помилует война и все другие невзгоды, столь щедро выпавшие на долю нам. Мы только что отправили письма родителям погибших ребят: Павлика, Тольки, Арсенова, Бориса Соломатина, видимо, это и подтолкнуло Любку высказаться.
— Когда люди избавятся от всякой опасности… когда им не нужно будет выбирать, они перестанут быть людьми, — закончил Зубков.
Возникла неловкость: сентиментальная и непритязательная фраза Любки не требовала такой серьезной отповеди. Сама Любка даже не поняла, за что он на нее накинулся.
Читать дальше