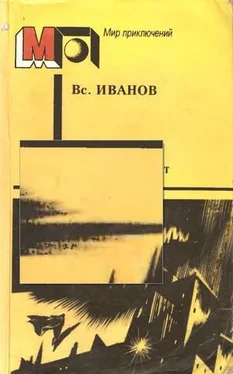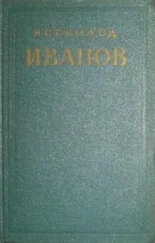…Он услышал смех. На него бросилось что-то мохнатое, ловкое. Его тормошат, обнимают. Перед ним чудесное, милое лицо капитана Елисеева. Нагнувшись к уху Марка, капитан шепчет, что все замечательно, что он очень доволен, что Хованский ждет не дождется, что на батарее все живы-здоровы и рады его видеть, что Воропаев уже вернулся… Откуда? Да он кончал школу и теперь, обученный, будет командовать третьей, которая действует здорово…
– А Настасьюшка? – спрашивает Марк, и хотя ему приятно будет узнать о ней, но он сознает, что вопрос этот вошел в его голову лишь потому, что надо узнать обо всех. Он помнит что-то опрятное, голубое, необыкновенно внимательное – и все. Ни лица ее, ни фигуры явственно он представить не в состоянии. Если можно так выразиться, она стала для него отвлеченностью. Даже странно слышать оттенок благодарности в словах Елисеева: он все еще думает свое – дескать, отказался Марк, сознательнейше взвесив «за» и «против». Какой вздор живет иногда в голове очень умных и здоровых людей, вроде капитана Елисеева! Понять бы ему: был мальчик, думал исправить ошибку отца, – ах ты, юноша, – а прошло время, сделался взрослее, понял, что не все исправишь в мире, да и не все надо исправлять.
Елисеев шепчет:
– Настасьюшка, друг, идет далеко! От нее ждут бондаринских способностей. Касаясь личной жизни, скажу, что мы соединились навечно. Да что я? Она, коли надо, гвоздь из стены взглядом вырвет: выдающаяся личность. Играй, ветер! Шуми по этому случаю, песня. Пляши, жизнь! А помнишь?..
– Что, Сережа?
– Помнишь, фашист нас все с фланга брал? А теперь мы ему под фланг подобрались, да так загнем полу, что бежать ему не убежать! Мы теперь так живем: маневр и атака. Маневр и сокрушительная атака! И ты, Марк, тем же жить будешь.
Он стоит перед ним, распахнув полушубок и не обращая внимания на холодный ветер. На золотистых бровях у него повисли сухие прозрачные январские снежинки. Руки у него – словно из меди, а лицо – огненное от заходящего солнца, глаза – прикажи только – способны пробуравить насквозь землю. Как с ним приятно быть вместе, а того приятней дружить! Они долго стоят на январски звонкой, закатно-золотистой дороге, смотрят друг на друга и не насмотрятся. На душе у них просторная весенняя оттепель. Они – друзья навсегда, навечно.
1943
Близ старой Смоленской дороги
В конце душного августовского дня 1839 года Василий Андреевич Жуковский, поэт и воспитатель наследника-цесаревича, возвращался с бородинской годовщины.
Клубы золотисто-зеленой пыли, почему-то пахнущей ванилью, закрывали какую-то деревню.
– Горки?
– Горки, – недовольным голосом отозвался кучер. «Ахти, батюшки, – думает он. – Все придворные экипажи давным-давно за Можайском, а император небось уже скачет по Москве». Даже карета митрополита, темно-бронзовая, блестящая, похожая на садовую жужелицу, славящаяся своей медлительностью, обогнала их.
Тарантасы, туго набитые купечеством. Скрипучие дрожки, пахнущие дегтем, от которых за версту несет витиеватой канцелярщиной. Прогретые солнцем до дна толстые офицерские баулы со спящими на них Неимоверно пьяными денщиками. Прямоволосые монахи и пышноволосые дьяконы, покрывающие своими нахальными голосами трескучий грохот дороги. Купцы на ящиках колониальных товаров. Кирасиры на раздутых и надменных конях. Уланы на «степистых» – колесом шеи… Дальние помещики с крикливо-напыщенными голосами. Кухонные мужики. Плетенки с птицей, не зарезанной еще и по этому поводу радующейся: гогочущей, кукарекающей… Хлесткий хохот. Пьяные рыдающие крики. Запахи коней, горячей земли, стонущей от долговременной засухи… И надо всем этим пыль, пахнущая ванилью, – должно быть, оттого, что по дороге, перед проездом государя, разбросали множество еловых веток. А впереди предстоит еще больше пыли, криков, толкотни – вслед за зрителями идет стопятидесятитысячная масса войск, бывших при открытии Бородинского обелиска.
Утомленный, чувствуя жестокую, возрастающую боль в висках, Василий Андреевич, с присущей ему мягкой властностью, приказал кучеру свернуть на Псарево и проселком выехать к холмам, на старую Смоленскую дорогу, в том месте, где, позади третьего корпуса Тучкова, двадцать семь лет тому назад стояли в ожидании боя полки московского ополчения, а позже отступал от Москвы Наполеон.
Хотелось проехать дорогой, не столь переполненной, а более того – еще раз увидать былые места, где проходил молодым. Шутка ли сказать: ведь уже стукнуло пятьдесят шесть… И двадцать семь прошло с того времени, как он, молодой, в новеньком ополченском мундире, жавшем под мышками, стоял в кустарниках: «Ядра невидимо откуда к нам прилетали, все вокруг нас страшно гремело…»
Читать дальше