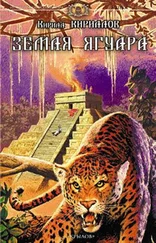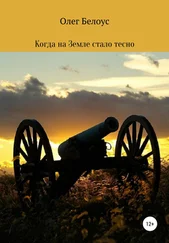В кабине было тепло и тихо. Эдька включил транзистор и даже придремнул. Когда было холодновато, включал минут на десять мотор. За стеклом опять потемнело, похоже на то, что дождь начнется. Развернул вездеход снова на зимник, чтобы потом, когда придет Коленьков, сразу податься домой. Домой… Лагерная палатка домом родным кажется. А по радио Юрий Гуляев арии из оперетт поет. Благодать.
Дурость он натворил сегодня. Подумаешь, правду-матку резанул в глаза начальству. Да и правду ли? Что Коленьков ему плохого сделал? А без Катюши скучно. Вот взять бы заработать денег да вместе с ней в Москву на месячишко. Да по всем театрам.
Стало немного смешно: размечтался. Дай бог, чтоб на билет заработать, доехать бы до папиного кармана. Если не прогонят еще за язык. А он бы, на месте Коленькова, так и сделал. На кой шут в партии такой баламут? А чего, уж себе-то он признаться в этом может.
Дремалось хорошо, уютно. Вот он приедет домой и скажет отцу:
— Папа, ты мне поверь… Я честное слово не вру и не ошибаюсь. Знакомься с Катюшей… Я хочу на ней жениться, а пока я буду служить в армии, пусть она с тобой поживет в одном доме.
Отец его всегда поймет. Всегда. Тут сомнений никаких. Его папка — он умница. Да и мама тоже, только она ничего в семье не решает. Ясно, она всплакнет, а отец закрутит головой, удивленно на него глянет и скажет:
— Опять сам?.. Спросить хоть бы догадался у отца-матери. Плохого не присоветовали бы. Эх ты, самостоятельный дюже. Гляди, как бы потом не плакать.
Эти слова сказал отец тогда, когда он объявил о своем решении уехать с теть Лидой. А мать действительно заплакала.
Ничего, все будет как надо.
Он не заметил, как сон сморил его.
Проснулся Эдька от взрыва. Небо раскалывалось на черные рваные клочья. Пулеметной дробью бил по кабине дождь. Коленьков дергал его за ногу, пытаясь забраться в вездеход, и вспоминал всех Эдькиных родственников до десятого колена.
Начальник партии тяжело дышал. Вода стекала с его короткой брезентовой куртки, брюки, видимо, тоже промокли насквозь, потому что прилипли к ногам. Он торопливо укладывал свой рюкзак на заднее сиденье.
Молнии полосовали воздух перед самым радиатором. Ливень был таким густым, что видимость впереди ограничивалась несколькими метрами.
— Заводи, — приказал Коленьков.
— Подождать бы, — Эдька никогда в жизни не ездил в такой кромешной тьме, когда перед носом уже ничего не видно.
— Трогай… — выругался Коленьков, — если не проскочим по дороге, по зимнику, тогда здесь неделю загорать будем… Расквасит болота. Ну, чего ждешь?
Эдька завел мотор. Вездеход рванулся с места и покатился вниз, под уклон. Тяжелые камни колотились в днище, машину ломало, корежило на ухабах. Руль вырывало у Эдьки из рук.
— Держи левее, — подсказывал Коленьков, — здесь где-то камень здоровый. Ага, вот он… Теперь прямо… Тут просека… Ну?
Вездеход застучал на жестких корнях деревьев. Мотало из стороны в сторону. Коленьков приник к стеклу, пытаясь за струями разглядеть мир. Его команды Эдьке были короткими и злыми:
— Гляди лучше… Куда третью втыкаешь? Глаза у тебя где?
Просека угадывалась слева, близким своим краем. Будто потемнее было. Эдька помнил, что там — стена деревьев. Справа была сплошная муть, размытая дождевыми потоками. Все вокруг ревело, стонало, ухало громовыми раскатами. Эдька вел машину почти наугад, глядя не столько вперед, сколько на Коленькова, пытавшегося разглядеть дорогу.
— Давай, давай жми, пацан! — кричал Коленьков, и Эдька рывками газовал, отчего вездеход кидало из стороны в сторону, чуть не переворачивало. Ревел мотор, захлебываясь от напряжения.
В душе Эдьки господствовал страх. Ему казалось, что все сейчас происходящее совершенно неправдоподобно. Может быть, это продолжение сна, жуткого, который лучше поскорее прервать? Нет. На ухабах Эдькины коленки упирались в металлический корпус машины. И еще ругань Коленькова — это тоже совершенно материально. Во всяком случае, после каждого рывка вездехода Коленьков сопровождал ругань тычком в Эдькино плечо:
— Давай, кому говорю, давай…
Противно зачмокала грязь под днищем. Слева исчезла кромка просеки. Выбрались на зимник. Коленьков знаком приказал Эдьке остановить машину, и, когда мотор заурчал умиротворенно, на малых оборотах и грязь перестала шуршать, он сказал:
— Ну, а теперь, парень, если нам повезет… В общем, помни одно. Справа — беда… Лучше выкручивай налево… Там хоть на твердой земле бедовать будем. А справа — трясина. Ухнем — и все… И конец нам обоим. Тебе ясно?
Читать дальше