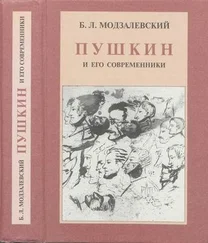Таким образом, печатая в том же томе "Современника" 16 стихотворений Тютчева из числа 27, Пушкин укоряет поэтов в бездействии. Тютчевские стихи не входили в круг поэзии, к которому Пушкин присматривался, на которую он возлагал надежды в поступательном ходе литературы.
Резюмирую: принятие в "Современнике" стихов Тютчева было вовсе не актом признания, тем паче "благословением" со стороны старшего поэта по отношению к новому гениальному поэту. Тютчев прежде всего был вовсе не новым и не молодым поэтом для Пушкина, а достаточно ему известным и притом таким поэтом, о котором он уже раз отозвался и отозвался неблагоприятно, за шесть лет до того. Затем, стихи Тютчева были "приняты" Вяземским и Жуковским. И, наконец, в "Современник" к тому времени принимался всякий, притом третьеразрядный стиховой материал.
5
Остается еще вопрос о корнях предания. Корни предания - в отношении к Тютчеву пушкинского круга. Мы видели уже свидетельство Гагарина о восторженном приеме, оказанном стихам Тютчева со стороны Вяземского и Жуковского. Мы видели, как настойчиво Плетнев подчеркивает впоследствии значение факта напечатания. Плетневу и принадлежит, главным образом, канонизация предания. Гораздо позднее, более чем через 20 лет, Плетнев "вспомнил" ретроспективно об "изумлении и восторге", с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мысли, яркости красок, новости и силы языка". * Но к этому сообщению приходится отнестись с большой осторожностью. Плетнев был современником Пушкина, надолго пережившим его и опиравшимся в своей позднейшей деятельности на его авторитет; факт принятия и напечатания Пушкиным стихов (факт, как мы видели, не имеющий того значения, какое ему приписывалось Плетневым), муссировавшийся Плетневым в пору его личного интереса к поэзии Тютчева и ее признания, а также "восторг и изумление" Жуковского и Вяземского на протяжении 23 лет сливались во внушительную, приличную для случая (отзыв находится в докладной записке Плетнева о поэтической деятельности Тютчева при баллотировке его в члены Академии наук) и как нельзя более соответствовавшую литературным убеждениям самого Плетнева картину освящения Пушкиным деятельности нового замечательного поэта.
Плетнев, по выражению Грота, был "литературным пиетистом", в 40-х годах и далее он уже не был живым современником Пушкина, а составил себе определенное идеализованное литературное представление о пушкинском периоде, далекое от жизни. Ср. то, что он говорил в письме к Гроту (3 апреля 1846 г): "Карамзин явился жрецом искусства тогда, когда и в Европе не было много подобных поклонников. Образ мыслей и образ жизни (независимо от языка и дарования) - вот что дает ему высочайшее достоинство в литературе. Он творец этой идеально прекрасной школы, которую составили Жуковский, Батюшков, Пушкин и проч. включительно до нас с тобою". ** Влияние Пушкина у него во многом "преобразовано" другими, - хотя бы того же Грота, ср.: "Тут сменил ты Пушкина и уже сильнее подействовал на мое преобразование". *** И дилетантские стихи Грота кажутся ему иногда достойными Жуковского и Пушкина. Ср. также отзывы-клише о Жуковском и Пушкине: "Это наши Шиллер и Гёте". ****
* "Ученые записки II Отд. Имп. Академии наук", 1859, стр. LVII.
** Переписка Грота с Плетневым, т. III, стр. 721.
*** Там же, стр. 731.
**** Там же, стр. 32.
Приведу пример того, как Плетнев собственные литературные убеждения вкладывает в уста Пушкина. Грот заметил разницу в языке "Арапа Петра Великого" и "Дубровского": в "Арапе Петра Великого" "часто встречается оный и сокращенная форма местоимения который", чего "почти нет" в "Дубровском", и спрашивал, "которая повесть писана прежде". * Плетнев ответил на это Гроту: "Дубровский" и "Арап" изучены мною давно. Напрасно думаешь ты, что различие их языка произошло от промежутка времени, в которое их писал автор. Обе пьесы принадлежат последней эпохе совершенствования Пушкиным его искусства - эпохе, когда он постигнул, что язык не есть произвол, не есть собственность автора, а род сущности, влитой природою вещей в их бытие и формы проявления. Автору остается только постигнуть вещь, ее природу и все слитое с бытием ее: тогда он должен на этом основании вырвать и язык из этой вещи. Вот в каком расположении ума и убеждения Пушкин писал все со времени "Полтавы", и высшее произведение этого периода есть "Капитанская дочка". В "Арапе" ты встретишь кои и оные, потому что это период языка еще времен Петровских; в "Дубровском" уже менее их, потому что это екатерининская эпоха". ** Грот, по-видимому, напутавший в первом письме, отвечал на это: "Что касается до "Арапа" и "Дубровского", то ты, объясняя разность слога разностию эпох, к которым относится рассказ, явно ошибаешься, потому что оные и кои встречаются в "Дубровском", а не в "Арапе", как ты полагаешь". ***
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу