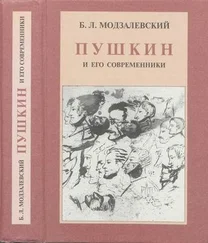В стиховой драме Пушкина после "Бориса Годунова" совершается то же, что и в эпосе: при небольшом количестве стихов дается большая стиховая форма. В эпосе это достигается энергетическим моментом переключения из плана в план, в стиховой драме - энергетической окраской речи со стороны драматического положения. Драматическое пространство перестает играть у Пушкина декоративную роль, а вводится, как конструктивный момент, в самую речь. Это совершилось естественным путем в "Борисе Годунове": важность выбора положения для изображения характеров при мозаичности нового жанра толкала на это. Должна была отпасть грузная документальность декораций, чтобы это новое завоевание укрепилось. Неудача "Бориса Годунова", являвшаяся результатом переоценки "социального заказа", развязывает ему руки. "Искренно признаюсь, что я воспитан в страхе почтеннейшей публики, пишет он, предугадывая неуспех трагедии, - и что не вижу никакого стыда угождать ей и следовать духу времени". Это первое признание ведет к другому, более важному: "Так и быть, каюсь, что я в литературе скептик (чтоб не сказать хуже) и что все ее секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону". 49 Дело идет здесь о "романтизме", а стало быть, о материалах и жанрах.
Вопросы эти при неудаче "Бориса Годунова" с обычным литературным скептицизмом (а, вернее, свободой) Пушкин разрешает в диаметрально противоположную сторону. Не характеры, а амплуа (а иногда маски: Фауст, Дон Гуан). Не площадная драма, а трагедия "костюмов". И вместе с тем, при учете результатов "Бориса Годунова", преобразование этих видов в большие жанры. С полной силой эти методы преобразования сказываются уже в "Сцене из Фауста", где насыщенный, сжатый диалог не обращается в отдельные лирические стихотворения, а является подлинной драмой именно благодаря выбору драматического положения. Пространственные и декоративные драматические элементы здесь важны не как данности, а как речевая установка.
Фауст
Что там белеет? говори.
Мефистофель
Корабль испанский трехмачтовый...
Фауст
Все утопить.
Мефистофель
Сейчас. (Исчезает.)
Это переключение драматических аксессуаров в речевую установку обращает стиховое слово диалога в стиховой жест.
Совершенно естествен второй этап стиховой драмы Пушкина, так называемые (и неправильно называемые) "маленькие трагедии", данные на основе сценарно сжатого диалога. Черновые заглавия Пушкина - "Зависть", "Скупой" - указывают, как Пушкин переходит к героям классической трагедии. Установка на фрагмент сталкивает Пушкина с фрагментарной английской трагедией Барри Корнуоли и Вильсона. В итоге и здесь Пушкин дает новый жанр классической трагедии, преобразованной в стиле и объеме технического фрагмента. Любопытны в этом отношении проекты названий Пушкина для драматического цикла: "Драматические сцены", "Драматические очерки", "Драматические изучения", "Опыт Драматических Изучений". Первые два подчеркивают жанрообразующую роль фрагмента, вторые два указывают, что стиховой жанр был не только новым, по и теоретически нащупывался. Сила драматических аксессуаров, введенных в самую речь как элемент ее (ср. знаменитую реплику Лауре: "Приди - открой балкон"), так велика, что Пушкин не нуждается в настойчивом проведении одного какого-либо лексического тона, и такие имена, как "Иван" (слуга), такие обращения, как "барин", не разрывают лексической иноземной окраски произведения и вместе с тем доводят ее до минимума, до прозрачности.
Так могли пригодиться как материал автобиографические черты в "Каменном госте" - ссылка Пушкина:
Лепорелло
А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился - что тогда, скажите,
Он с вами сделает?
Дон Гуан
Пошлет назад.
Уж верно головы мне не отрубят.
Ведь я не государственный преступник!
Меня он удалил, меня ж любя...
Лепорелло
Ну то-то же!
Сидели б вы себе спокойно там!
Дон Гуан
Слуга покорный! Я едва-едва
Не умер там со скуки. Что за люди,
Что за земля! А небо?.. точный дым,
А женщины?.. *
Точно так же в "Скупом рыцаре" автобиографическим материалом послужила скупость отца и известная стычка с ним. **
* Ср. с этим письма об этом из ссылки: 1. Вяземскому от 13 и 15 сентября 1825 г.: "Очи заботятся о жизни моей; благодарю - но черт ли в эдакой жизни. Гораздо уж лучше от нелечения умереть в Михайловском". 2. Жуковскому от 6 октября 1825 г.: "В се равно умереть со скуки или с аневpизма". 3. Ему же от января 1826 г.: "Вероятно, правительство удостоверилось, что я заговору не принадлежу" и т. д. 4. Плетневу от января 1826 г.: "Покойный император в 1824 году сослал меня в деревню за две строчки нерелигиозные - других художеств за собою не знаю". 5. Вяземскому от 27 мая 1826 г.: "Михайловское наводит на меня тоску и бешенство". 6. Дельвигу от 23 июля 1825 г.: "Некто Вибий Серен, по доносу своего сына, был присужден римским сенатом к заточению на каком-то безводном острове. Тиберий воспротивился сему решению, говоря, что человека, коему дарована жизнь, не должно лишать способов к поддержанию жизни. Слова, достойные ума светлого и человеколюбивого!".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу