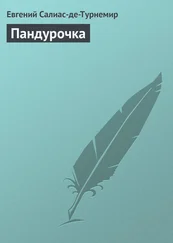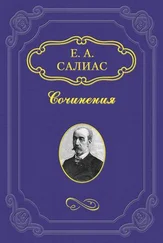Из всех машин русских и заморских, которые действовали на заводах Высоксы, самая лучшая, крепкая, тщательно и притом бессменно работавшая уже более двух десятков лет, был сам владелец, шестидесятитрехлетний человек.
Аникита Ильич вставал в восемь часов зимой и в шесть часов летом…
Когда он просыпался, первые его слова, всегда говоримые вслух, были:
— Помилуй, Господи, на нонешний день, вразуми, оборони, внезапного конца избави.
Затем, перекрестившись, он восклицал:
— Масеич…
Дверь спальни отворялась тотчас, и в ней появлялся камердинер барина, двадцать семь лет ему служащий, Никифор Моисеев Шлыков, бывший донской казак, молчавший о своем прошлом, о своей молодости. И только один барин знал давно это прошлое своего любимца… Одно слово барина могло по закону угнать Масеича в Сибирь, но барин, конечно, никогда этого слова не сказал бы. Он любил Масеича, быть может, больше, чем кого-либо, но этого даже не сознавал. Когда Масеич раз в год, а то и в два, хворал и не являлся, Аникита Ильич был не в духе, раздражителен и сам себя чувствовал точно хворым. А тот горемычный, который заменял хворающего, конечно, висел на волосок он гнева раздосадованного барина.
Впрочем, за последние пять лет Масеича в случае болезни заменял его сын, двадцатидвухлетний Никишка, крестник барина и совершенно его не боявшийся, один, пожалуй, на всю Высоксу.
Масеич вставал часом ранее барина, проходил по особой лестнице и садился за дверью. Жил он с семьей в собственном доме около большой церкви, но к часу пробуждения барина был неизменно на своем месте.
Аникита Ильич, позвав и увидя Масеича, всегда спрашивал:
— Ну, что?..
Или просто отзывался из постели:
— Ну?
Масеич всегда отвечал кратко, одним словом:
— Светло… Светлехонько… Горит!.. Тянет… Нависло… Дождит. Хлещет…
Все это были давнишние, раз навсегда принятые барометрические показания.
Объяснения «тянет» Масеич не любил и избегал. За это слово ему часто доставалось. Конечно, простой попрек никогда не шел далее названия «слепой курицы». Показание «тянет» значило, что приближается с небосклона туча летом или свинцовый кругозор грозит метелью… И, разумеется, камердинер часто ошибался: дождя и метели не было.
Поднявшись с постели, Аникита Ильич тотчас переходил в маленькую комнату около спальни с каменным полом, с одним маленьким окном, куда светило ярко восходящее солнце. Зимой, еще среди темноты или полусумрака рассвета, в углу комнатки горели четыре свечи в большом канделябре.
Здесь старик сбрасывал белье и влезал в широкую ванну, сгибался в три погибели или становился на колени, а Масеич брал ведро в руки и начинал медленно поливать барина… Зимой это была вода, принесенная за час перед тем и лишь изредка разбавленная теплой водой. Летом вода приносилась с погреба и приготовлялась с вечера, то есть насыщалась льдом…
Несмотря на долголетнюю привычку к обливаньям ледяной водой, старик все-таки «ухал» и синел…
Но, выйдя из ванны и вытираясь с помощью Масеича, он быстро «отходил» и в эту минуту всегда смотрел веселее и ласковее, чем за все другие минуты дня.
— Вот простая, глупая выдумка, а нужно было ее англичанину выдумать. Русский человек не додумался! — часто говорил старик, как бы из какой-то потребности сказать это. Масеич, слышавший эти слова тысячи раз, отвечал всегда кратко:
— Д-да-с…
И только изредка он прибавлял что-либо, не вполне соглашаясь с барином.
— У нас тоже, по православному обыкновению, народ из бани зимой выбегает и в снегу валяется… — замечал он.
— Это другое совсем, глупая голова! — отвечал барин. — Со снегу-то они опять в жар да в пар лезут, а я тут сам себя должен согреть…
И, действительно, после холодного обливания, Аникита Ильич добивался того, что чувствовал себя слегка вспотевшим или вскоре же, или после минут десяти или пятнадцати.
Для этого у дверей спальни, в прихожей комнате, где всегда ожидал Масеич его пробуждения, стояли козлы, а на них лежало огромное бревно, вершков в шесть толщиной, иногда и в пол-аршина…
Аникита Ильич брал большую голландскую пилу, выписанную из Петербурга, и начинал пилить бревно, вернее, отпиливать от края бревна кружок… В деле этом старик дошел до такого искусства, что отпиливал тончайший кружочек, который можно было просверлить пальцем, как пряник.
Но в этом пилении бревна, как и во всем, что делал Басанов, была особая «повадка», была метода. Иногда он отпиливал полкружка и бросал до завтра. Иногда он отпиливал два и три кружка и пилил мерно, не спеша, минут десять, двадцать.
Читать дальше
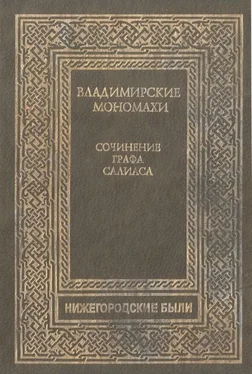





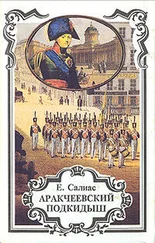
![Евгений Салиас-де-Турнемир - Волчок-доносчик [Рассказ для детей]](/books/393069/evgenij-salias-de-turnemir-volchok-thumb.webp)
![Евгений Салиас-де-Турнемир - Филозоф [litres]](/books/413761/evgenij-salias-de-turnemir-filozof-litres-thumb.webp)