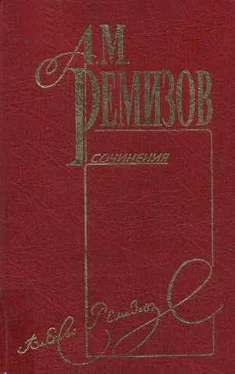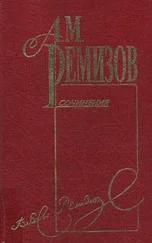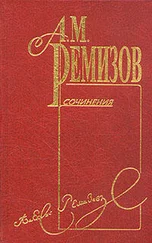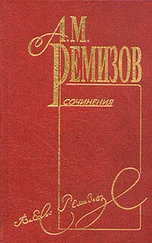Едрило 15 , наша достопримечательность. Но что Едрило, что Мамочка, как их по-настоящему неизвестно, все их называют по-разному, и одно известно, что у Мамочки паспорт турецкий. Едрило вернулся с какого-то свиданья, о чем завтра он будет всем хвастать и завираться, почему и зовется Едрило. Он подымался к себе на 8-ой, лифт у нас неисправный, и чувствует, на лестнице несет газом. Ноздрею в нюх добрался он до 4-го, нюхнул: крепко! – и назад.
Консьерж с консьержкой, завалясь, спали. Едрило достучался: «кто-то из квартирантов пустил газу!» А консьерж не соглашается: «поздний час, неудобно, говорит, по квартирам лазить, под дверями обнюхивать!» И все-таки вышел из-за перегородки: Едрило его напугал взрывом: «дом, сказал Едрило, вспыхнет, как спичка». И захватив плоскогубцы и отвертку, пошли шагать по лестнице, от дверей к дверям, как жулики, впритишку. Да нелегко донюхаться: «Летнее время, жаловался потом консьерж, везде дух какой-то ненормированный» (он хотел сказать «ненормальный»). И не сразу обнаружили задохнувшиеся бриллианты.
Все мы, запоздалые, толклись у подъезда. Тут был и Евреинов и Половчанка, Никитин 16 и Пупыкин, Мамочка с лягастой собачонкой на руках, как самых маленьких носят, оттого и зовется «мамочка», Анна Николаевна – «Жар-птица» с манухинской сорокой – об одной ноге, Софья Семеновна – «Гретхен» без парика, как на ночь приготовилась. С пожарными стоял «амбюланс» (санитарный автомобиль), и все в него заглядывали, дожидаясь. А тут и задержавшаяся в гостях родственница старухи вернулась; она хлопотала с одеялами.
И вижу – выносят: вроде как спит, лицо серое из серого картона. Говорили: «мало надежды привести в чувство». И я, гаядя на блестящие каски пожарных, подумал: «Если и они отступились, ей никогда не проснуться. Да оно и спокойнее: бриллиантов ей не видать уж!» А ее «неукоризненная совесть» осталась с нею, чего же лучше – не то ведь, вспоминая, замучилась бы: «пропали! – зачем не отдала?»
Старинный русский обычай: под голову умирающему кладут камень – каждый уносит с собой в могилу свой камень! 17 Вот бы когда бриллианты нашли свое место. Но береженые замечательные бриллианты, конечно, испарились с газом.
«Тесная душа, сказал сосед-сапожник, его загончик на углу, все знает, – тесная, – повторил с раздумием, – из блохи голенище выкроит!»
Madame Bonville его клиентка, и постоянно из-за мелочей торговалась, вот ему и последнее слово, и это слово было, как камень.
И когда ее втащили в «амбюланс», а за ней влезла ее родственница и, стараясь укутать ее одеялами, подтыкнув под ноги, под голову и под спину, – руки ее не слушались – тыкала она мимо и все в одно место, а лицо дергалось. И я опять подумал, но не сказал, как сапожник, моего последнего слова: «неукоризненная совесть» – мне было странно и себе произнести это слово, мне так далекое и нам, после Бодлера 18 и русских «исповедей», не чуждое, но совсем чужое: «неукоризненная совесть» – какая это тишина, покой, уверенность и безмятежность!
А кто был в эту ночь на высоте величия и счастья – так это Едрило. Если бы вовремя не заметил, «весь дом вспыхнул бы как спичка!» – повторял он, пропуская жильцов, как контролер, на лестницу по квартирам. И все его благодарили. Скажу про себя: я трижды подходил к нему поблагодарить, а Евреинов, – Евреинову некуда подыматься, он внизу, – так по крайней мере раз десять и как актер, «рассыпаясь» в благодарности, величал Едрилу не просто «Едрилой», а «Едрило Иваныч». Кто-то подал мысль привести фотографа; завтра же увековечат в Paris Soir. Фотограф в нашем доме, его и звать нечего – да ведь уж ночь! Пожалуй, так и лучше: у всех на глазах стояла заспанная «Сестра-убийца», бывшая Madame Dalison. Поднявшиеся к себе «домой», и проверив, все ли в порядке: «газом несло-таки!» – снова спускались по лестнице к Едриле и снова благодарили.
Всю ночь все окна настежь, дом освещен, как бывает в Париже в сочельник. Или это бриллианты, испаряясь, переливались огнями? Ложиться спать никто не решился.
Я дежурил на кухне. Мне очень хотелось спать. И вдруг слышу: по лестнице робко кидающиеся шаги – кому бы это? Родственница старухи, конечно, это она, неотлучный страж ее, она вернулась из госпиталя: «Madame Bonville est décedée» (скончалась). А за родственницей грузно, – шаг за шагом – Едрило тихоход, его походка. И я не утерпел, приотворил дверь («поблагодарить»?). На лестнице не было свету, но и впотьмах я не ошибся – но и не узнать было Едрилу: его глаза горели самоцветом. Или нынешняя ночь единственный случай, когда он не хвастал? Или понял он – сейчас он богатый – всю нищету свою и всю бездарность: богатому просто незачем хвастать!
Читать дальше