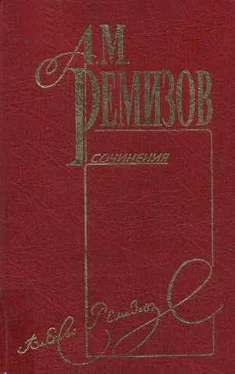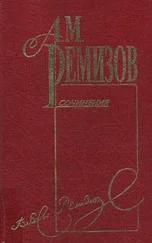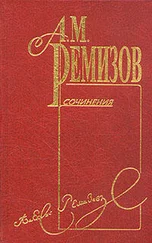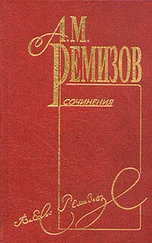Не спуская глаз василиска, опаловых 12 , как этот единственный свет, наблюдает за мной Костяная нога 13 . Но я делаю неимоверное усилие воли – гляжу в опаловые глаза и уже скрылся из ее глаз.
Улица – не протолкнешься, площади запружены – вышли все на этот праздник: одни стоят, ожидая, другие идут. У Трокадеро я совсем потерялся – стоял беспомощно, но воля и желание мое дойти – и мне указали дорогу.
Слепой, уверенно шел я – и вот: дворец на
Монмартре – на той же высоте, как Святое Сердце 14 . Это книжная Палата: полно книг, и витрины с рукописями.
Уже собралось много и входят; как я. Вижу знакомые лица, и со старых портретов знакомые. Тут все наши наставники и учителя нашего Парнаса: Мольер, Корнель, Расин, Буало, и «властители дум» – Стерн, Шиллер, Гете, Байрон, Тик, Бальзак, Стендаль, Диккенс. А вон и Достоевский…
Я отошел к сторонке, разглядываю рукописи, – эти листки, сохранившие боль и восторг человека, неизбывное, незабываемое и трепет.
И вдруг, как по искре, все метнулись к высокому в стену окну: из окна весь Париж – волнующееся, черное от голов.
И покатился колокол беспредельно полного звука. Под его мерные раскаты, выбивавшиеся из металлической, согретой, как выстланной бархатом, глуби, чьи-то руки, миря и утишая, собирали растерзанную душу, уносили воздушно ввысь. 15
Зачарованный, я слушал. И все, вся зала с насторожившимися книгами, все, кто были тут, знакомые и неизвестные, странные, древние – замерли в очаровании.
Слушаю, – я вслушивался, я его помню – впервые я услышал его там – в августовский вечерний час под Успенье 16 в Москве – Большой кремлевский колокол 17 .
И все, все на площади, все то черное застыло в слухе, не шевелясь.
И под колокол с распространяющимся звуком, наполнявшим собой от края и до края, свет в глазах переменился не серое, не муть, не обреченное опаловое, сиял над черной площадью голубой купол. И это было больше чем солнце, не яркостью, а трепетом – невечерняя голубь 18 .
* * *
На росстани 19 дорог – прощаясь с любимыми цветами, музыкой, узорчатым письмом и всею чередою дней: крещенская крестящая метель и первый весенний гром – мечта и трепетность июльских нагрозившихся зорь, один-одинокий покинутый ветер сказывает сказки – поздняя осень, прощайте! Я знаю и теперь могу сказать: в этой жизни я был зачарован словом.
Слово! когда говорят – Европа, Азия, Египет, о чем говорят? О слове. Все памятники искусства рушатся: смотрите, песок пустыни и дикая степь. Но слово… И я представляю себе ту последнюю минуту, когда слово осталось без уст – его нельзя сжечь, его нельзя отравить – и оно подымется и отлетит, трепетом самозвуча, со своим последним горьким словом:
«Так зачем же все это было дано человеку на проклятой Богом земле?»
* * *
Муж «Сестры-убийцы», надзиратель в Сантэ, смастерил загоны и клетки у «пубелей»: завел кроликов, кур, поросят, уток, индюшку и еще каких-то кактусовых мордастых зверьков, не для еды, а себе для забавы – и крысы все до одной ушли: беспокойно. Куда ушли крысы не могу сказать, а было, значит, совещание, и найдено место, и произведена «эвакуация» (в этом слове для русского что-то лягушачье и скажу: принудительное переселение на новые места).
Никаких ночных криков, и Евреинов не жаловался. Хрюк, писк и пение – занятие не ночное, а петуха не в счет, да и помеха не большая: наша сонная ночь начинается с третьих, всего раз, значит, за ночь и вздрогнешь. А кроме того, ни поросенок, ни кролик, ни утка, а тем более индюшка, в Евреиново окно ни под каким видом не будут соваться – животные не так бессмысленны, как о них смышленые люди судят. – В самом деле, сунься-ка, попробуй, живо в кастрюлю или на сковородку угодишь – и из индюшки зажарится индейка, и жертвовать крылышком или задней ножкой тоже не очень приятно.
А время идет: позади хвосты, впереди петля. С оккупации уж третьего стащили на кладбище – темная работа шакалов: Мамочки мужа и еще какого-то старичка, которого никто никогда не видел, и соседа его – про него ничего я не знаю, и только слышу: вдруг и неожиданно – точно в этих делах, в эти темные дни, можно что-то считать и рассчитывать. И уж третья консьержка («Сестра-убийца» – Роза – «Костяная нога») собирает в «терм» (в срок) дань с квартирантов, как до войны, в войну и в оккупацию, всегда в чем-то ошельмованных и виноватых. А от живности давно и помину нет – все съедено до последнего кролика, а клетки и загородки на растопку пошли.
На дворе пустынно и чисто – какая тишина и какой простор! – без щепочки, без стеклышка, и не кольнет глаз завалящая зеленая бутылка, украшение дворов. Не те времена, нынче из-за порожней, даже поганой бутылки готовы друг другу глаза выцарапать, а сколько ссор из-за этих бутылок!
Читать дальше