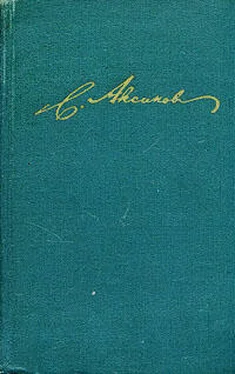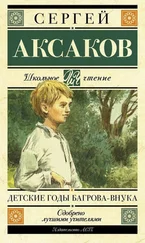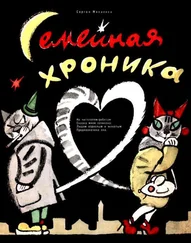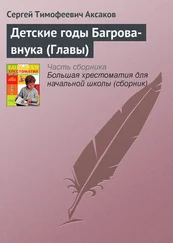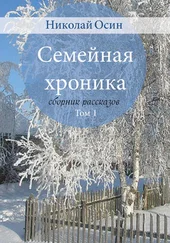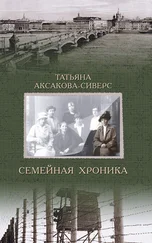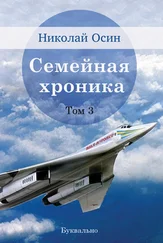Не «изящество» и «благородство» движений, не внешняя манера держать себя. На сцене, а умение раскрыть характер человека, по мнению Аксакова, – самое важное в театральном представлении. Все сценические возможности актера должны быть подчинены этой задаче – «искусству выражать характеры», наиболее трудному и благодарному искусству. В одной из самых ранних своих статей «Мысли и замечания о театре и театральном искусстве», опубликованной в 1825 году в «Вестнике Европы», Аксаков писал: «Того актера можно назвать совершенным, которого поймет и незнающий языка (представляемой пьесы) по выразительности голоса, лица, телодвижений, даже глухой – по двум последним, даже слепой – по одному первому»
Аксаков выступал против холодной и напыщенной декламации, бессильной увлечь зрителя и убедить его в достоверности того, что происходит на сцене, ибо «где потеряна вероятность, там и очарованию нет места». Он пишет о «весьма дурной привычке» иных актеров и актрис, которые «на сцене голос свой стараются делать ненатуральным и в самых жарких местах своей роли смотрят в глаза зрителей». Аксаков выдвигает замечательный для того времени принцип, согласно которому язык персонажа должен соответствовать его характеру. Человек со сцены обязан говорить так же просто и естественно, как в жизни. «Чтение на театре, – замечает критик, – нестерпимо, а надобно говорить, рассказывать». Правда, вначале он допускал известное исключение для трагедии. Стихи в трагедии могут произноситься с напевом, впрочем, «умеренно и не везде». Здесь Аксаков делает уступку, как он выражается, «условной натуральности», естественной в «изящных искусствах». Произносить в трагедии стихи с напевом ненатурально, конечно, но это такого же рода допустимая условность, как и та, когда человек на сцене говорит стихами, да еще с рифмами.
Эстетическая позиция Аксакова в это время еще не лишена очевидных противоречий. Верные взгляды соседствуют с ошибочными. Осуждая классицистическую рутину, Аксаков пока еще сам не вполне свободен от ее власти. С простодушной откровенностью рассказывал он, например, три десятилетия спустя, как в те годы своей литературной молодости он считал, что «пошлая» и «низкая» повседневность не может стать предметом изображения на театре, как он, бывало, внушал Шаховскому, что считает оскорблением искусства представлять на сцене, как мошенники вытаскивают деньги из карманов добрых людей и плутуют в карты. «Я был не совсем прав и не предчувствовал гоголевских „Игроков“», – добавляет Аксаков. И далее пишет он, что тогда неясно и нетвердо понимал, что высокое художество может воспроизводить и пошлое и низкое в жизни, нисколько «не оскорбляя изящного в душе человеческой».
Но, отдавая известную дань традиции, Аксаков, однако, в главном шел наперекор ей. В эстетике молодого Аксакова, несмотря на явно ощущаемую связь с эстетикой предшествующей эпохи, совершенно отчетливо пробиваются новаторские идеи. В своих рассуждениях он порой прямо перекликается с Пушкиным. Но ему свойственна непоследовательность, а порой и неумение применить верные в своей основе принципы к конкретным явлениям искусства. Здесь – объяснение некоторых удивительных по своей наивности оценок Аксакова. С одной стороны, драматический писатель, в его представлении, – «наставник» публики, способный «двигать вперед образование словесности», а с другой – он видит, например, в Загоскине образцового народного писателя, в Шаховском – «нашего первого драматического писателя», в Писареве – чуть ли не гениального комедиографа, от которого можно было ожидать «комедий аристофановских». Перед нами – не просто пример снисходительно «пристрастного слова дружбы». Нет, вопрос гораздо сложнее. Аксаков был, несомненно, искренне убежден в истинности своих приговоров. Они – отражение незрелости и противоречивости его общеэстетической позиции.
Взгляды Аксакова на сценическое искусство претерпели в 20-е годы определенную эволюцию. С каждым годом в них все более явственно кристаллизуется реалистическая тенденция.
К концу 20-х годов на московской сцене уже гремели имена двух гениальных актеров – Мочалова и Щепкина, творчество которых открывало собой совершенно новую эпоху в истории русского театра. Это были актеры-новаторы, ломавшие омертвелые каноны классицистического искусства. На протяжении многих лет вокруг деятельности каждого из них кипела ожесточенная борьба, в ходе которой решались судьбы русского театра. Отношение к Мочалову и Щепкину являлось как бы своеобразной лакмусовой бумажкой, определявшей истинный характер общественной и эстетической позиции того или иного критика.
Читать дальше