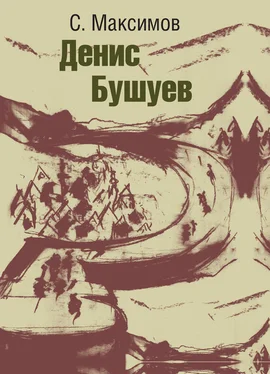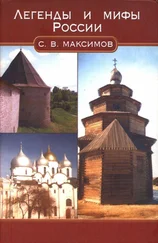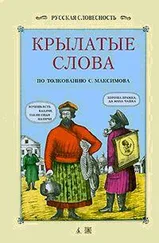– Не знал?
– Нет… Ты ведь слыхал, наверное, почему он…
– Слыхал, – поспешно ответил Бушуев, боясь, что она произнесет слово, которое он не хотел, чтобы она произносила, – Настя мне написала… Но, может, он догадывался?
– По виду не заметно было.
– Неужели он тебе перед смертью… ничего и не сказал? – порывисто спросил Бушуев, в то же время чувствуя нелепость своего вопроса.
– Говорить – ничего не говорил, а записку оставил. Только там, кроме завещания Грише и прощения, ничего нет…
– Какого прощения?
– У народа просит он прощения.
– За что?
– За обиды… когда председателем колхоза был.
– А нет ли у тебя этой записки?
– Нету, Денисушка, нету. Не отдали мне ее, в городе оставили.
– Да как же все это случилось? Я ведь ничего не знаю, я и у своих еще не был… – сказал Бушуев, вдруг с болью вспомнив про деда Северьяна.
Манефа ровным и тихим голосом стала рассказывать. Она передала всю историю с Алимом в том виде, в каком знала и сама со слов Гриши. Текст записки она помнила наизусть. Бушуев три раза заставлял ее повторять этот текст, вдумываясь в каждое слово, и пришел к выводу, что Алим, если не знал о связи жены, то догадывался, иначе чем же объяснить отсутствие естественного в таком случае обращения к самому близкому и любимому человеку – жене. Даже и намека не было на последние слова жене. Он почувствовал, как что-то оборвалось в его сердце.
Он снова взглянул на серебристую прядь, и она перехватила этот взгляд. Улыбнулась и сказала:
– А это появилось, Денисушка, на другой день, как деда твоего забрали в город…
– После деда? – словно не расслышав, удивленно переспросил он.
– Да… В то самое утро.
– Почему же… почему же после деда? – быстро спросил он, чувствуя, что вопрос его неловкий, нехороший, умаляющий значение другого события, не менее большого и мучительного, чем смерть Алима.
– Опять не знаю… – ответила Манефа. – Ты не сердись, Денисушка. Я такая глупая стала. Все забываю… А дед-то твой был хороший человек. Мы с ним потом очень подружились… А где же твои вещи, Денисушка?
– На пристани, в городе… Я пешком пришел из Костромы-то, – сказал Бушуев, внутренне прислушиваясь к тому, каким странным эхом отозвались в его ушах слова Манефы о деде. Да, о мертвых и о лишенных свободы говорят в прошедшем времени. «Дед был». А теперь его нет. Он «был». И неужели Денис больше не увидит его?.. Да зачем же она все время улыбается?
– …Икону он мне подарил, – продолжала Манефа все тем же ровным и бесстрастным голосом. Хочешь посмотреть?.. Пойдем в горницу… Что ты так взглянул на меня? Спросить хочешь, верю ли я в Бога? Не знаю… наверное, не верю. А иконка – что ж иконка? Пусть висит…
Она встала и пошла в соседнюю комнату, мягко и бесшумно ступая войлочными туфлями по крашеным половицам. Бушуев поднялся и пошел за нею, и ему показалось, что ее невысокая стройная фигура, туго охваченная старенькой черной юбкой и ситцевой чистой кофточкой, стала как будто полнее и крепче.
– Вот, смотри…
В углу, там, где сосновые бревна сруба, гладко оструганные и туго проконопаченные паклей, сходились в прочную связь, освещенная слабым синим светом лампадки и обрамленная белоснежным полотенцем, висела темная икона Богоматери. Бушуев сразу узнал ее. Он вспомнил рассказ старика о том, как давным-давно, в снежную пургу где-то за Волгой, в керженских лесах, где попрятались в непроходимых дебрях старообрядческие скиты, дед Северьян уже немолодым человеком вез в розвальнях седенького монаха и, сам не зная как, заехал, сбившись с пути, в такую чащобу, что лошадь, утопавшая по брюхо в сугробах, уже не могла идти дальше и упала, обессилев, в снег, а они – дед Северьян и монах, – бросив лошадь и розвальни, пошли, сами не зная куда, пешком по дремучему лесу; и монах замерз по дороге и, умирая, велел деду Северьяну взять его мешок, где находилась завернутая в тряпицу драгоценная икона. Через три дня дед Северьян, обмерзший и голодный, выбрался к какому-то лесному скиту… И сколько раз, смотря на строгое, суровое лицо Богоматери, Денис мысленно рисовал себе картину лесных дебрей, снежную пургу и маленького седенького монаха, тихой смертью умирающего в сугробах и передающего спутнику коченеющими руками свою единственную ценность – старую и потрескавшуюся икону с кое-где облупившимся темным письмом. И теперь, всматриваясь в знакомые черты изображения, он опять увидел чернильную зимнюю ночь, гнущиеся под ветром и звонкие от мороза деревья и двух согнувшихся обмерзших спутников, запорошенных снегом и жалких в своей беспомощности среди бушующего русского снега.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу