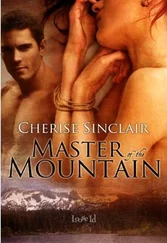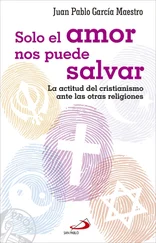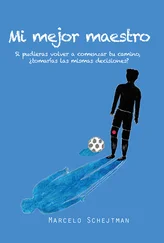Набранное крупным шрифтом на грязно-синих афишах, расклеенных по городу, имя гастролёра не встречалось мне прежде, несмотря на приписку "Лауреат Сталинской премии". На мутных фотографиях лицо артиста можно было принять за любое другое.
- Komm mit mir! - Фридман вцепился в рукав моего пальто и поволок по оттепельной слякоти, которая с чавканьем разлеталась в стороны.
Во дворце культуры угольщиков было холодно. Немногочисленные зрители кутались в пальто и шубы, женщины прятали руки в модные тогда меховые муфты. Весь цвет нашего города разместился в первых двух рядах большого нетопленного - по случаю наступившего потепления - зрительного зала. Лепные позолоченные розетки и серпы с молотами на стенах и потолке дворца навевали настроение торжественной тоски и безысходности.
Концерт уже начался, и мы, бесшумно пройдя по мягким ковровым дорожкам, пристроились в плюшевых креслах последнего ряда.
Прямой старик пел высоким, порой в речитатив переходившим голосом, и весь его облик - из неведомого и призрачного мира - и его песни - чужие, невесть в каком далеке придуманные и для кого сюда привезённые, - вызывали недоумение. Подчёркнутая одинокость его фигуры на большой сцене, грассирующая картавость, изысканная, почти карикатурная жестикуляция... что это?
После каждой песни раздавались одинокие хлопки.
- Типичное упадочничество, - сказала Вера Алексеевна, наша литераторша. Она говорила шёпотом, но слышна была даже в конце зала - я сразу узнал её голос.
- Декаданс, - ответила её соседка. Наша историчка говорить тихо вообще не умела.
Объявили антракт. Недружно захлопали сиденья. Людской ручеёк устремился в холодное позолоченное фойе: там торговали разливным пивом.
Фридман направился к сцене, обошёл её, приоткрыл незаметную дверцу, которая вела за кулисы; он опять ухватил меня за рукав и потянул за собой. Дорогу нам преградил пожилой крепыш в полувоенном кителе без знаков отличия - похоже, отставной офицер.
- Сюда нельзя! - он выдвинулся и заслонил собой проход. Тон его указывал на привычку и умение повелевать и подчинять.
- Шаг влево, шаг вправо считается побегом!
- Конвой стреляет без предупреждения!
Фридман шёл, втянув голову в плечи.
В зимней предутренней мути вокруг него молча,
не глядя по сторонам,
маячили такие же, как он, заключённые.
Охранник стоял сбоку,
крепко сжимая обеими руками автомат.
Зэк поднял глаза
и встретился со злобным прищуром вохровца.
Он уже давно заметил,
что все охранники, где бы он с ними ни
сталкивался,
были всегда на одно лицо.
Иногда ему даже казалось,
что и в сорок втором, и в пятьдесят втором его
охраняли
одни и те же люди.
Я никак не ожидал, что Фридман взорвётся.
- Отфали! - тихо, с решительной угрозой в голосе произнёс Maestro, и на его лице появилось выражение гадливости. Отставник растерялся и не ответил; он лишь беззвучно уставился на нас. Фридман брезгливо отодвинул его в сторону; тот, как ни странно, совсем не сопротивлялся. Мы прошли, и Фридман добавил - уже на ходу: - Шфаль!.. - полагая, очевидно, что этим всё объяснил - в ответ на моё молчаливое недоумение. - Топтун! Сфолётш! Хер маршофий!..
В центре пустой сцены, на том самом месте, где застал его антракт, грустным воплощением одинокости возвышался артист. Он оставался таким же прямым, как и во время выступления, только лицо его было склонено к сложенным пригоршней ладоням, и он дышал в них, пытаясь вдохнуть тепло.
Прошло какое-то время, прежде чем он обратил на нас внимание. Его рассеянный взгляд скользнул по Фридману, который, скрытый тенью, был, очевидно, принят им поначалу за рабочего сцены. Потом певец ещё раз взглянул в нашу сторону и вновь отвёл глаза. Но что-то, по всей видимости, обеспокоило его. Он прищурился, покачал головой, как будто отгоняя навязчивое видение, и всё дышал, дышал в ладони.
Наконец, он нерешительно, будто зову повинуясь, двинулся в нашу сторону. Шаг... ещё шаг... и ещё. Глаза его сощурились, длинные пальцы рванулись вперёд, руки, плечи, шея, голова - вся тонкая фигура певца устремилась к нам; губы его шевельнулись:
- Mon Dieu... Боже мой... Бо-же-мо-ой!..
Фридман вышел из тени. Он молчал и неподвижно стоял перед артистом и лишь, не переставая, кивал и кивал и кивал в подтверждение безумной его догадки.
Тогда тишину сцены пронзил крик. Крик состоял из двух взрывов, разделённых промежутком недоумения, неуверенности, неверия, невероятности случившегося:
Читать дальше