После этого разговора у него точно что оторвалось в груди и упало. Наутро он спросил у дочери:
– Олечка, скучаешь?
– Что ты, папочка, мне весело, весело, весело…
Он поглядел ей в глаза и закручинился еще более.
– Фейзулка, – рявкнул он вдруг.
– На что тебе, папа?
Лука Евсеевич замялся.
– Вот что, братец, – обратился он к Фейзулину, – ты тово… понимаешь… на счет… ну, одним словом, этак… пошел к черту.
– Папочка, милый, ты не в себе… Что с тобою?
– А вот что, дочушка. Давай поговорим. Давай-ка сядем. Так-с. Тебе, голубчик, у нас скучно: все я да я, Фейзулин да Фейзулин. Опротивели, я думаю…
– Что ты, папа, я вас люблю обоих.
– Погоди, не перебивай. Ты, брат, нам не пара. Мы отжили, а ты только начинаешь. Тянет тебя в свет?
– Как сказать…
– В жизнь, в общество, в залы, в любовь, наконец, тянет?
– Пожалуй – да.
– Так и отлично. Это кстати. Будь добра, окажи дочернюю услугу старику-отцу: съезди в Тифлис. У меня там дело к твоей тетке, а моей сестрице… Погостишь там, а потом к нам.
– Ты меня гонишь, папа!
– Боже сохрани. С чего взяла? Прогуляешься. Маяк забудешь. Ветерком продует, а вспомнишь – милости просим. Так свезешь письмо? А?
– Ты думаешь, что я скучаю у тебя?
– Да нет же, нет, не думаю. Съезди в Тифлис, отдай письмо тетке. За деньгами дело не станет: нам с Фейзулиным немного надо: щи да каша – и объелся. А ты повеселишься. Нельзя же золотые дни губить… Езжай, голубчик.
– Право, папа, как-то…
– Ну что за глупости. Валяй, и кончено.
В это время задул норд-ост, и Лука Евсеевич вышел выплакать свое горе буре. Кому же, как не ей? Дочь уедет, и он – один. А жизнь его разве не буря? Три года томления над угасающей женой; семь лет ждать дочери и потом, когда мелькнуло счастие, сознаться, что ей «не пара», не место ей на маяке. Тяжелое страдание. Он возроптал:
– За что же, Господи, за что же? Не надо, не надо, не надо… Нельзя томить чужую жизнь.
Через два дня Фейзулин сбегал за перевал, достал лошадей и отвез Олю на пароход. Воротился пасмурный и мрачный. Лука Евсеевич стоял у маяка и жадно вглядывался в дымок на горизонте. Он был чуть-чуть виден. То был пароход, и на этом пароходе уезжала Оля.
Лука Евсеевич не плакал. Он только чувствовал, что она покинула их навсегда. Рядом с ним стоял Фейзулин и тоже смотрел в море на дымок.
Лука Евсеевич вдруг обернулся к нему.
– Фейзулин, а? Уехала?
– Уехала, ваше б-родие.
– И тебе жалко?
– Жалко, ваше б-родие.
– А вернется к нам сюда? Поддержит нас, стариков, скажет нам словцо перед смертью нашей? Или все это пропадет даром?
– Не знаю, ваше б-родие.
– Не знаю, брат, и я… Поди-ка достань водки…. с горя… Авось легче станет…
Текст печатается по изданию: газета «Новое время», 1887, 1 августа, № 4102; подпись: Ал. Ч.
Ночь под Рождество. Все церковные службы давно уже окончились и все уже спят. На соборной колокольне давно уже пробило полночь, но с колоколен всех семи церквей города несется беспрерывный и в то же время беспорядочный трезвон. Присяжные пономари давно уже устали, и их заменили добровольцы. Одни звонят, другие ждут очереди, чтобы сменить их.
Лица их угрюмы, взоры тоскливы; они занесены снегом и даже страшны при тусклом свете восковой свечи, пламя которой борется с ветром, пробивающимся в щели фонаря. Свеча то замирает, то вспыхивает вновь. А угрюмые люди звонят и звонят без устали, несмотря на глубокую ночь.
Звон несется во мгле ночи и замирает.
Здесь, на самой колокольне, от него дрожат стены и пол, а там, за пределами ее, он слабеет и затихает в борьбе с ветром.
Это не тот радостный звон, который весело возвещает миру рождение Спасителя и зовет к заутрене. Нет, это звон, терзающий душу, вызывающий глухую тоску и заставляющий тех, кто слышит его, страдать.
Третий день уже бушует беспросветная и беспрерывная вьюга. Снег сверху, снизу и с боков вьется в бессильной, демонической борьбе с какой-то стихийной мощной силой и несет с собою ужас. Еще два-три таких ужасных дня, и весь приморский большой город будет до крыш занесен снегом и потонет в сугробах. Второй день не открывается ни одна лавка и сыты только те обыватели, у которых дома, до вьюги, были запасы. Второй день выходят на улицу только одни смельчаки, но и те, убедившись в бесплодности борьбы с вьюгой, спешат поскорее назад.
Маленькие избушки и землянки, разбросанные по берегу моря, давно уже показывают почти только одни трубы. Их дворики занесены и утонули в сугробах. Коровы в хлевах стоят без корма и воды, собаки попрятались. Сторожей давно уже нет на их обычных местах. Сторожить нечего и не от кого. Из редкой трубы ветер выхватывал и разносил охапки дыма.
Читать дальше


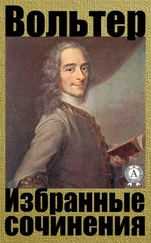
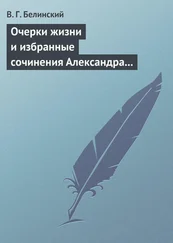
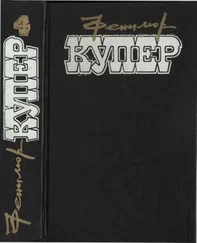


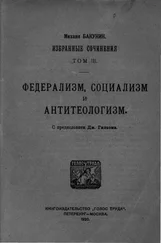

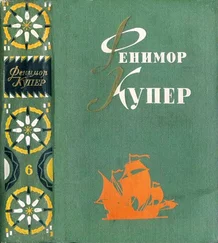

![Антоний Фердинанд Оссендовский - Тайна трех смертей [Избранные сочинения. Том I]](/books/408118/antonij-ferdinand-ossendovskij-tajna-treh-smertej-thumb.webp)
