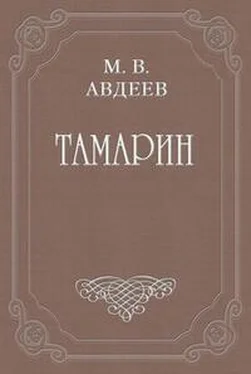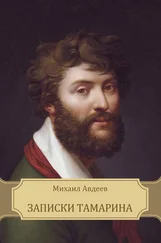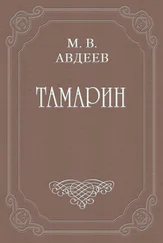На другой день мне предстояла очень неприятная обязанность объявить Вареньке об отъезде Тамарина. Я не знал, как мне приняться за это. Мне хотелось рассказать ей все как было: вырвать разом из ее сердца любовь к человеку, который ее не стоит, который уехал от скуки, бросил ее из каприза. Это была бы целительная, но крайняя мера: после нее Варенька должна была или выздороветь, или изнемочь; я боялся ее; я лучше Тамарина узнал, как глубоко падает в душу Вареньки всякое чувство; и мне больно было передать на словах то, что он, не задумавшись, решился сделать. С другой стороны, смягчить поступок Тамарина, дать его отъезду какой-нибудь благовидный предлог значило оставить Вареньку под влиянием этого человека и, щадя ее в настоящем, готовить, может быть, много, много зла в будущем. И — сказать ли правду? — я бы рад был оправдать Тамарина в собственных глазах. Мне не хотелось в нем разочаровываться: я любил его; любил его за его злой язык и доброе сердце, за аристократическую изящность манер, за ту моральную силу, которою природа щедро наградила его и которую он носил так свободно и так не гордо; любил я его больше за то, что его любила Варенька.
В нерешимости, с досадой и злостью на Тамарина, под влиянием самых дурных впечатлений я выехал часу в двенадцатом утра, с тем чтобы навестить Мавру Савишну. Но прежде я велел заехать к Сергею Петровичу: я думал, не удастся ли мне застать еще его и переговорить с ним; одно время я даже был убежден, что он просто не уедет, что ночью он одумается; что невозможно, чтобы он не увидел, как странен и предосудителен его поступок, на который он решился не подумавши; наконец, мне казалось просто невероятным, чтобы человек ни с того ни с сего мог бросить девицу, которая ему нравится, которую он завлекал, которая любит его, — бросить, не стараясь даже оправдать себя в ее мнении, не проститься с нею, оставить ее, как мы оставляем дома бумажник, когда в нем нет уже денег. Смешно сказать: когда я подъезжал к крыльцу Тамарина, сердце во мне билось, как в тот день, когда я шел к покойному тестю, чтобы просить у него руки Марьи Ивановны. На дворе никого не было; дверь в дом была отворена; я вошел в переднюю. На пороге меня встретила баба с лоханью и чуть не облила помоями; другая, в сарафане, с заткнутым за пояс подолом, в платке, сбившемся набекрень, с раскрасневшимся лицом, с которого пот катил градом, стояла в том положении, которое обыкновенно принимают бабы, когда моют полы. На вопрос мой, дома ли Сергей Петрович, она, не приподнимаясь, повернула голову и закричала так, что едва не оглушила меня:
— Дома нет; с час места, как в город уехали.
— Совсем уехал?
— Совсем, и Яков Григорьич с ними (камердинер Тамарина).
После этого она обмакнула мочалку в кипяток, бросила ее на пол и, размахнувшись обеими руками, так сильно пустила струю воды по некрашеному полу, что я едва успел отскочить, чтобы не замочить ног.
Более мне делать было нечего; я сел в тарантас и со стесненным сердцем поехал к Мавре Савишне.
Варенька меня встретила в зале; она была такая розовенькая, свежая, веселенькая. По обыкновению, она протянула мне свою ручку.
— Здравствуйте, Иван Васильич! Вы нас совсем забыли… Что, Марья Ивановна не возвратилась?
— Нет еще, — отвечал я, — но она в письме поручает вам кланяться.
— Вы из дому?
— Из дому: заезжал только к Сергею Петровичу. Я к вам приехал по его просьбе.
— По какой это? — спросила Варенька, с любопытством посмотрев на меня и покраснев, не знаю отчего.
— Вы не знаете: он уехал в N, — сказал я как мог веселее.
— В N! Это зачем?
— Не знаю. Вот видите ли: вчера я заехал к Сергею Петровичу. У него был князь Островский, из Петербурга, его бывший сослуживец, который едет тоже в N. Мы отобедали. После обеда я лег вздремнуть, а Сергей Петрович с князем долго о чем-то разговаривали. Когда я проснулся, мне Сергей Петрович и говорит: я еду, Иван Васильич, в N; зачем это, спрашиваю я. Нужно, говорит; вы, говорит, потрудитесь съездить к Мавре Савишне и извинить меня перед ней и Варварой Александровной, что не могу сам к ним заехать проститься. Я, говорит, еду завтра рано утром с Островским. Заезжаю я сегодня, а уж их и след простыл.
Варенька слушала меня с неподвижно поднятыми на меня голубенькими глазами. Она вся побледнела, бедненькая, и хотела, казалось, о чем-то спросить. Но в это время послышался из другой комнаты голос Мавры Савишны:
— Что это вы там рассказываете, Иван Васильич? Подите-ка сюда!
Читать дальше