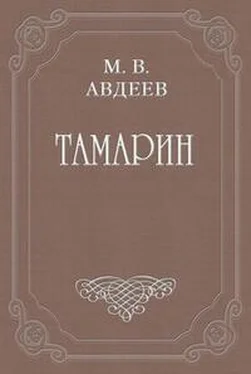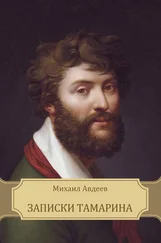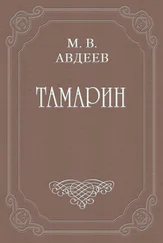— Мой милый, давно известно, что дуракам счастье. Кстати о дураках: что барон? Ты его видел в Петербурге?
— Как же, дня за три до отъезда я его встретил на вечере у N. Там я узнал, что ты живешь здесь.
— А! Разве еще обо мне говорят в Петербурге?
— Очень мало. Разве иногда вспоминают твои bons-mots, анекдоты, или последнюю твою историю, которая наделала много шуму. Именно о тебе и вспомнили по случаю возвращения баронессы. Говорят, что она сюда нарочно приезжала для тебя и что у вас снова что-то вышло. Правда?
— Вздор! Мы с ней встретились нечаянно. А ее ты видел?
— На этом же самом вечере. Она была чрезвычайно интересна, но холодна как мрамор. Верно, тебе мы этим обязаны. В доброе старое время наша любовь жгла, Тамарин, а теперь, видно, только морозит.
— В таком случае оставайся верным шампанскому, тогда твоя любовь будет очень хорошо пристроена.
— Как твоя у Вареньки… так кажется?
Это имя было так неожиданно брошено в разговор, что сон, который начинал было клонить меня, мигом прошел; я думаю, что даже я повернулся на диване, потому что Сергей Петрович оборотился и посмотрел на меня; но я закрыл глаза и притворился спящим. Князь тоже взглянул на меня.
— Qui est ce butor? — спросил он вполголоса.
Я тогда не понял этого слова и только после в лексиконе у детей нашел его не совсем выгодное значение.
— C'est notre voisin, — отвечал Тамарин, — un bon-homme accompli; он спит, — прибавил он.
— Я думал, не родственник ли он твоей Вареньки.
— Нет, но он друг дома.
— То есть в связи со старухой?
— Помилуй: ей шестьдесят лет.
— Что ж, душа моя, всяко бывает, Ninon например…
— Ну, она не Ninon, a Мавра Савишна; однако скажи, пожалуйста, Островский, кто тебе говорил о Вареньке?
— Ara! Верно, я попал прямо в цель. Ты, который вечно восставал против друзей, говори же теперь, что они эгоисты и заняты только собою!
— Да, если нельзя сделать сплетни или распустить клевету на чей-нибудь счет.
— Тамарин, ты неисправим!
— Я это говорю не на твой счет, душа моя: ты еще никому не успел рассказать про меня; но я бы желал знать того друга, который тебе рассказывал?
— Мне говорила баронесса. Она тебе велела кланяться и пожелать успеха у Вареньки. Больше я не успел и расспросить. Скажи же, пожалуйста, она замужняя или вдовушка?
— Ни то, ни другое: она еще девочка.
— Девочка! — воскликнул Островский с ужасом. — Это до такой степени непростительно, что я налагаю на тебя бутылку шампанского штрафа.
Сергей Петрович позвонил, велел взять пустую бутылку и подать новую. Когда бутылка была переменена и лакей вышел, князь выпил стакан и продолжал.
— Так ты хочешь жениться? — сказал он с особенным сожалением.
— Откуда тебе приходит в голову такой вздор, Островский? Ну, гожусь ли я для семейной жизни? Если бы мне наконец и пришла эта дикая фантазия, то стоило бы только взглянуть на тебя, и она наверное бы прошла.
— Что ж, ты меня считаешь опасным? — спросил князь самодовольно.
— Да; как и всех рогатых.
— Смейся, смейся, mon cher, — отвечал он очень серьезно, — а дай Бог всякому быть так счастливым, как я!
— Спасибо!
— Я прожил с женою три года душа в душу, на четвертом мы друг другу надоели и разъехались; теперь мы живем еще счастливее и не беспокоим один другого. Что ж тут дурного?
— А что, она все такая же хорошенькая?
— Очень хороша: в последний ее приезд в Петербург я было чуть не влюбился в нее и начал волочиться, но она меня приняла очень сухо и послала к актрисам и вдове Клико; к счастью, она скоро уехала; я послушался ее совета и утешился. N волочился за ней нынешним летом в Баден-Бадене и говорит, что она еще похорошела. Ты ведь за ней тоже ухаживал?
— По обязанности твоего друга, — не больше. Впрочем, я был несчастлив.
— Полно, так ли? Ты что-то все жалуешься на неудачи. Это моя старая метода; пожалуй, ты скажешь, что был несчастлив и у баронессы, и у Вареньки. Кстати, что тебе за идея пришла волочиться за девушкой? Ведь ты в нее не влюблен.
— Полно, братец, кто ж в наши лета влюбляется.
— Ну, лета бы еще ничего, да сердца-то в нас поизносились. Ста тысяч годового дохода у нее нет?
— Нет.
— Следовательно, ты на ней не женишься: ты ею не воспользуешься, потому что слишком благороден. Зачем же ты ей кружишь голову? Будь это в столице, в большом кругу, я это понимаю: о вас стали бы говорить: ее жалеть, а тебя бранить на чем свет стоит, называть человеком без сердца и прочее. Это очень лестно. Но здесь, в глуши, волочиться по страсти к волокитству, кружить голову con amore, доставлять другой счастие и несчастие, а себе оставлять скуку — этого я решительно не понимаю.
Читать дальше